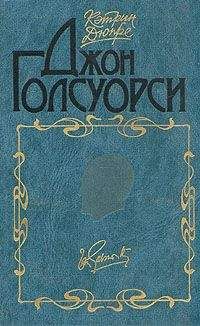Джон Голсуорси - Сильнее смерти
- Мы играем с отцом почти каждый вечер.
- Тогда сыграем партию?
Она знала, что ему хочется играть в карты потому, что тогда он сядет к ней поближе, на коленях они расстелят газету, он будет сдавать ей карты, случайно касаться ее руки, смотреть в лицо. Это не казалось неприятным, потому что и ей тоже нравилось его лицо, в котором было какое-то обаяние что-то легкое и свободное, чего так не хватает многим внушительным, красивым лицам.
Когда, прощаясь, он пожал ее руку, она невольно ответила крепким рукопожатием. Стоя у машины, он любовался ею откровенно и как бы печально; восхищенно глядя на нее, он сказал:
- Мы увидимся в опере, а потом, может быть, и на Роу? Вы ведь позволите мне иногда заходить на Бзристрит, правда?
Джип кивнула, и машина двинулась по душным улицам вечернего Лондона. После долгого пребывания в деревне ее комната показалась ей тесной. Надев халат, она села и принялась расчесывать волосы, чтобы избавиться от паровозной гари.
После того как Джип оставила Фьорсена, она несколько месяцев испытывала только облегчение. И лишь недавно стала задумываться над своим новым положением - замужней и в то же время незамужней женщины; разочарованная, она, однако, втайне уже начинала мечтать о настоящем друге, и с каждым часом сердце ее и красота созревали для любви. И теперь, видя в зеркале свое лицо, такое сосредоточенное и печальное, она ясно понимала, какой бесплодной была ее жизнь. Что толку быть красивой! Все равно ее красота никому не нужна. Ей еще нет двадцати шести, а она живет, как в монастыре. Вздрогнув, хотя ей и не было холодно, она плотнее запахнула халат. В прошлом году в это самое время она еще была в главном потоке жизни. И все-таки насколько лучше жить вот такой заброшенной, чем вернуться к тому, который навсегда запомнился ей наклонившимся над ее спящим ребенком, с протянутыми руками и растопыренными, похожими на когти пальцами.
После того, как она ушла от Фьорсена в то утро, он гонялся за ней неделями - в Лондоне, в Милденхэме и даже в Шотландии, куда увез ее Уинтон. Но на этот раз она не изменила своего решения, и он прекратил преследования и уехал за границу. С тех пор от него не было вестей, кроме нескольких несвязных или плаксивых писем, написанных явно в состоянии опьянения. А потом он и вовсе перестал писать, и вот уже четыре месяца от него не было ни строчки. Видимо, он наконец как-то "изжил" ее.
Она перестала расчесывать волосы; ей вспомнилось, как тем ранним октябрьским утром она шла с ребенком по тихим, пустынным улицам, как ждала, смертельно усталая, на тротуаре, пока на ее звонок открыли дверь. Она потом удивлялась: неужели только страх побудил ее к этому отчаянному бегству? Отец и тетушка Розамунда уговаривали ее попытаться получить развод. Но все тот же инстинкт запрещал ей делать достоянием других людей свои тайны и горести; она не хотела и неизбежного в бракоразводном процессе притворства, слов о том, что якобы любила его, хотя на самом деле не любила. Это была ее и только ее ошибка, что она вышла за него без любви!..
...Может ли измена
Любви безумной положить конец?
Если бы только знал ее случайный спутник, какой иронией звучали для нее эти строки!
Она встала и обвела взглядом комнату - свою бывшую девичью спальню. Значит, он помнил ее все это время! Встреча в вагоне не казалась уже ей встречей с незнакомым человеком. Теперь-то уж они, во всяком случае, знакомы! И вдруг она увидела его лицо! Ну, конечно! Как это она сразу не вспомнила? На стене в коричневой рамке висела цветная репродукция знаменитой картины Боттичелли или Мазаччо из Национальной галереи "Голова молодого человека". Когда-то Джип влюбилась в эту картину, и с тех пор она висела в ее комнате. Это широкое лицо, ясные глаза, смелый, четко очерченный рот, это мужество во всем облике... Только то, живое лицо принадлежало англичанину, а не итальянцу; в нем больше юмора, больше "породы", меньше поэтичности, зато было что-то "старогеоргианское". Как бы он смеялся, если бы она рассказала ему, что он похож на деревенского церковного причетника с лохматыми волосами и маленьким рюшем вокруг шеи! Улыбаясь, она заплела косы и легла в постель.
Но уснуть она не могла; слышала, как пришел и отправился в свою комнату отец, как часы пробили полночь, потом час, потом два, и все еще до нее доносился глухой шум Пикадилли.
Она укрылась только простыней, но было очень жарко; вдруг ей почудился запах цветов. Откуда цветы? Поднявшись с кровати, она подошла к окну. Здесь, за занавесью, стояла ваза с цикламенами. Это отец подумал о ней - какой милый!
Нюхая цветы, она вспомнила свой первый бал. Может быть, и Брайан Саммерхэй был там! Если бы его познакомили с ней тогда, если бы она танцевала с ним, а не с тем господином, который поцеловал ее в плечо, может быть, она по-иному относилась бы ко всем мужчинам? И если бы он восхищался ею в тот вечер - а ведь все восхищались ею, - может быть, он ей понравился бы или даже больше чем понравился? Или она смотрела бы на него, как на всех своих поклонников до встречи с Фьорсеном - этих бабочек, летящих на свечу и глупо обжигающих крылья! А может быть, ей было суждено получить этот урок и вот она подавлена и унижена...
Взяв из вазы цикламены и вдыхая их аромат, она подошла к картине. Очертания лица, глаза, устремленные на нее, - все было отчетливо видно; в сердце ее что-то слабо затрепетало - так трепещет раскрывающийся листок или крыло вспорхнувшей птицы. То ли на нее действовал запах цветов, то ли воспоминания о том, что случилось с ней за последние дни, но сердце ее. снова задрожало легкой необъяснимой дрожью, и она прижала руки к груди.
Было поздно, вернее, рано, когда она заснула. Ей приснился странный сон. Она скакала на своей старой кобыле по полю цветов. На ней было черное платье, на голове корона из сверкающих острых кристаллов; на лошади не было седла, и она сидела, поджав ноги, едва касаясь спины лошади, держа в руках поводья, свитые из длинных стеблей жимолости. Она мчалась и пела, и глазам ее открывался широкий простор полей до самого горизонта. Она чувствовала себя легкой, как пушинка; все время, пока они неслись вперед, старая кобыла поворачивала голову и откусывала цветы жимолости... Потом вдруг лошадиная морда превратилась в лицо Саммерхэя, с улыбкой глядевшего на нее. Она проснулась. На нее падал солнечный луч, пробившийся через занавесь, которую она отодвинула, чтобы увидеть цветы.
ГЛАВА II
В ту же самую ночь Саммерхэй вышел из маленького дома в Челси, где он жил, и пошел к реке. Иногда у мужчин бывает такое настроение, что их бессознательно тянет на простор - в луга, леса, к рекам, где открыт весь горизонт. Человек одинок, когда любит, и одинок, когда умирает; никому нет дела до человека, целиком погруженного в собственные переживания; но ведь и ему, Брайану Саммерхэю, ни до кого нет дела, - о нет! Он стоял на набережной и смотрел на звезды, сверкающие сквозь ветки платанов, время от времени вдыхая теплый, неподвижный воздух. Думалось о всяких мелочах, просто ни о чем; но какое-то сладостное чувство поднималось в его сердце, и легкий трепет охватывал все тело. Он сел на скамейку и закрыл глаза - и сразу увидел лицо, ее лицо! Один за другим гасли огни в домах напротив; уже не мчались машины и редко встречался прохожий, но Саммерхэй все сидел, как в полусне; улыбка то появлялась на его губах, то исчезала. Легкий ветерок подымал волны на реке.
Уже рассветало, когда он вернулся домой; и вместо того, чтобы лечь спать, он начал просматривать судебное дело, по которому завтра должен был выступать помощником адвоката, и работал до тех пор, пока не пришло время совершать прогулку верхом, принять ванну и позавтракать. У него была одна из тех натур - не столь необычных я среди адвокатов, - которым длительное напряжение идет на пользу. Человек со способностями, он любил свою работу и был на пути к тому, чтобы создать себе имя; и в то же время мало кто умел так невозмутимо, как он, под влиянием минуты вдруг отдаться течению. В нем было что-то противоречивое; он предпочел жить в маленьком доме в Челси, а не где-нибудь в Темпле или Сент-Джеймсе только потому, что любил одиночество; и в то же время он был прекрасным товарищем, хотя многие друзья, очень к нему привязанные, не во всем могли на него положиться. Женщины считали его безусловно привлекательным, но в общем они не задевали его сердца. Саммерхэй любил карточную игру; как человека порывистого, она брала его за живое; но вдруг после смелой и счастливой игры он бросал ее, чтобы когда-нибудь увлечься ею снова. Отец его был дипломатом и умер пятнадцать лет назад; мать была известна в светских кругах. У него не было братьев, только две сестры, и он имел личный доход. Таков был Брайан Саммерхэй в двадцать шесть лет, когда у него еще не прорезались зубы мудрости.
Утром он направился в Темпл, все еще ощущая необыкновенную легкость, и по-прежнему перед ним стояло это матово-бледное лицо с удивительно гармоничными чертами: темные улыбающиеся глаза, чуть широко расставленные, маленькие красивые уши, пышные каштановые волосы над высоким лбом. Иногда ему представлялось нечто менее определенное - какое-то излучение, игра света во взгляде, своеобразный поворот головы, свойственная только ей грация, что-то зовущее и трогательное. Этот образ не давал ему покоя, да он и не желал забыть его - таков уж был его характер: если ему приглянется какая-нибудь лошадь на скачках, он непременно поставят на нее, каковы бы ни были ее достоинства; если понравится опера, он станет ходить и смотреть ее снова и снова; если понравятся стихи, он запомнит их наизусть. И пока он шел вдоль реки - это был его обычный путь, - его обуревали самые непривычные чувства, и он был счастлив.