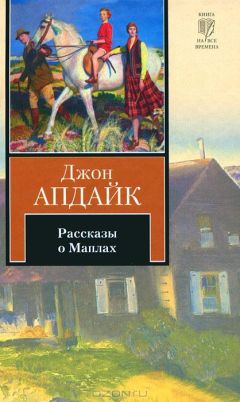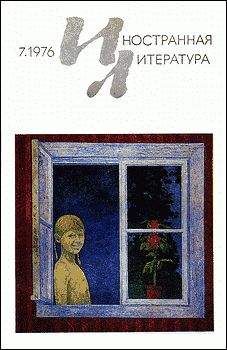Джон Апдайк - Переворот
Почему же в таком случае угнетатели пришли сюда? Этот вопрос терзал Эзану, шагавшего босиком по пустынному музею, вместе с болью в подошвах, слишком много лет покоившихся в итальянской коже, а сейчас пострадавших во время смелого спуска по шершавой внутренней стене дворца. Европейцы пришли, казалось, просто из зависти: у португальцев было здесь два форта, поэтому датчанам и голландцам захотелось тоже иметь форты. Египет оказался под британской пятой, поэтому французы решили прибрать к рукам Сахару; поскольку у британцев была Нигерия, немцы решили прибрать к рукам Танганьику. Ну, а потом что было делать на этих обширных землях? Осушать болота, бить слонов, сажать шоколадные деревья, расчищать дорогу для миссионеров. В Нуаре эти виды деятельности получили самый скромный размах: здесь было мало болот и еще меньше слонов. Тем не менее галлы делали свое дело, и горстка французов, которые у себя дома считались бы париями, создала здесь на спинах черных, обращавших на них не больше внимания, чем на мух, впечатление — пусть весьма шаткое — своей значимости. В одной из витрин музея хранились плети — от сикот, вырезанной во всю длину шкуры гиппопотама для выравнивания рабочих на плантации в одну линию, до изящного шелковистого фуэ с узлами, искусно завязанными на концах, которым жена управителя района наказывала своих горничных. В следующей витрине лежали непристойные принадлежности борделя в Хуррийя, который содержали для белой милиции и рабочих отоктоны местные жители. Таким путем был установлен своего рода контакт. Цивилизация водопадом грязи обрушилась на незаполненные, чистые места на карте мира. Произошло слияние кож вслепую, как у спящих, которые крутятся, перетягивая с закрытыми глазами на себя одеяло. На одной из темных стен висели большие карты присахарских империй — Сонгай, Мали и Канем-Борну. Они тоже были навязаны извне, и их появление и падение было отмечено ликвидацией многих ушей, рук и голов. На той же стене висели пожелтевшие и чудные дагерротипы вычурных пикников в буше, военных парадов, демонстрировавших изобилие пуговиц, художника с бородкой, в свободной белой блузе конца века, старательно изображавшего на мольберте в импрессионистической манере хижину, похожую на улей, и баобаб. Эзана крался мимо этих картин отошедшего в прошлое общения и думал о смысле колониализма, о том, как трудно представить себе, что народ Франции, страны с такой божественной литературой и кухней, мог завладеть немытой одной шестой неблагодарного континента для того, чтобы создать престижные посты для нескольких авантюристов, а это способствовало появлению великой страны Куш, которая существует исключительно для того, чтобы несколько представителей революционной элиты могли иметь свои посты. Памятники зверств империалистов словно удерживали Эзану, когда он стал откручивать большой восьмигранный болт на двери под писанным маслом портретом губернатора Федерба, снимками экспедиции Хурста и фотокопиями особенно гнусных страниц из знаменитого дневника полковника Тутэ. Эзана, крадучись, вышел в коридор. Он был пуст. Осыпающийся белый потолок, зеленый багет, проложенный на уровне его руки, уходили в бесконечность. Эзана в грязной одежде узника пробирался вдоль стены, скривив лицо и выпучив глаза, слушая, как его наручные часы с черным циферблатом отсчитывают секунды, и думал о том, что Эллелу, отправившись в дальнее путешествие, едва ли достигнет места своего назначения. Размышлял он и о том, как самому выжить, взвешивал возможности дворцового переворота.
Но у Эзаны не было желания стать вождем. Давать советы, спокойно выдвигать возражения за чашкой стынущего шоколада, тренировать машинисток, подписывать директивы, снимать пачки статистических данных с консолей картотек, видеть, как в наименованиях и цифрах выражена страна со всем ее смутным грузом озадаченности и непонимания, и, главное, одеваться как сановник, любоваться своим изображением на почтовых марках и иметь награбленное ко Дню Великой беды состояние, которое лежит в Швейцарии на закодированном счету, — вот это ему нравилось, не то что быть вождем. Ведь вождь — по безумию или доброте душевной — взваливает на себя все беды народа. Таких безумцев в мире немного, этим и объясняется сумбур руководства в мире. Кроме того, Эзана не замечал, чтобы деятельность вождей была очень продуктивна или прогрессивна — результатов, по-настоящему меняющих условия жизни людей, добиваются никому не известные люди, накапливающие правильные деяния и небольшие улучшения, люди, не обладающие особым даром, но наносящие завершающий штрих и приходящие к, казалось бы, очевидному выводу, в то время как харизматические лозунголюбы и громометатели средств массовой информации продолжают изъясняться символами, — бумажные боги, чья продукция идет на удовлетворение человеческого любопытства. Их можно в одну минуту выбросить за негодностью, а вот такому человеку, как он, всегда найдется место.
Он прокрался по коридору и наконец добрался до лестницы. Люминесцентные оранжевые стрелки указывали вниз, и надписи на шести языках гласили: «ТОЛЬКО ВНИЗ». У Эзаны были основания спросить себя, действительно ли для него есть место. В своем дешевом одеянии из старого мерикани, чьи полы били по подкашивающимся коленям и округлостям зада, он чувствовал себя словно бы уже перенесенным в эту неясную загробную жизнь, так монотонно гарантированную бессвязным бормотанием Мухаммеда. Эта лестница ведет вниз, в школу для девочек или в тюрьму, где диссидентствующие местные вожди и молодежь, пристрастившаяся к контрабандным комиксам, проходят курсы политического перевоспитания с семинарами на тему «Тысяча способов использования земляного ореха», а для тех, кто попадает сюда вторично, — «Идеи Иосифа Сталина». Эзане нечего было делать ни в одном из этих семинаров — его образование было закончено. Вопреки всем указателям он пошел вверх по лестнице, на тот этаж, где находилось его служебное помещение. Воспоминание о его кабинете — косматый ковер, письменный стол со стеклянной крышкой, поднос для «Входящих», поднос для «Исходящих», маленькая подставка с печатями и рядом весы для почты — жгло Эзану, как видение оазиса жжет воображение путешественника в пустыне. Сев в свое кресло, он мог снова взять в руки рычаги управления государством. Хотя Эллелу и далеко, он почувствует, что страна зашевелилась у него под ногами, машина прогресса заработала. Неожиданная размолвка по поводу Гиббса и Клипспрингера забудется, как женский каприз. Они с Эллелу нужны друг другу, как земле нужно небо, как путешественнику нужен верблюд. Один принимает решения, другой их осуществляет. И Эзана уже почувствовал себя уютно, снова сидящим на своем месте и подключенным к терминалам власти.
Прежде всего — он это неожиданно понял со всею ясностью администратора — надо охладить пыл Клипспрингера. Эти американцы на словах ворочают миллиардами, а потом выходит, что они промывали вам мозги. Не важно: вашингтонские ветры быстро выметут его и появится новый подрядчик. Что же до русских, он постарается избавить Куш от этого неистового зла. Эзана не сомневался, что за печальной распрей с президентом скрывались обструкционисты и специалисты по смуте, пользующиеся неразберихой. Суперпараноики — назвал он однажды в шутку тех, кто разделяет сегодня мир. Он находил и тех и других примитивно вульгарными в сравнении со старыми империалистическими державами, которые в своих холодных загородных домах и канцеляриях в стиле барокко по крайней мере делили между собой завоеванные континенты, поглощая различные деликатесы, которым борщ и гамбургеры в подметки не годятся. Эзана вдруг понял, что голоден.
Он прошел три поворота по гулкой чугунной винтовой лестнице и остановился у двери из металлических плит, на которых были выбиты цветы в стиле ар нуво. Эти веселые орнаменты привезли сюда французы — вместе с военной наукой, метрической системой и скрупулезностью. Эта дверь открылась от прикосновения. «Почему?» — подумал Эзана: ведь его стража могла прийти в себя и оповестить власти. Но какие? Устланные коврами коридоры с бачками охлажденной питьевой воды и грамотами о заслугах по службе под стеклом, с пробковыми досками, на которых пришпилены пожелтевшие, закрученные приказы по учреждению и остроумно аннотированные вырезки из «Нувель ан нуар-э-блан», были в этот час пусты, как долина, обитатели которой бежали прежде, чем появился обещанный слухами агрессор. Узкая дверь, которая вела в аскетичный кабинет Эллелу, была закрыта, матовое стекло темнело, непроницаемое, нетронутое.
Однако за более широким стеклом двери в кабинет самого Эзаны, находившийся шагах в двадцати дальше по коридору, за круглым столом, на котором лежали кубинские и болгарские журналы в ярких обложках с загорелыми красотками в капельках воды, нежившимися на пляжах Черного и Карибского морей, горел свет. Оттуда, словно из котлована, доносился гортанный смех. Эзана приложил ухо — ненормально маленькое и недостаточно развитое даже для черного — к стеклу. Вместе со смехом Кутунды он услышал другой голос, мужской, не стесняющийся своей громкости. Они ждали его и веселились. Эзана осторожно открыл дверь и прошел через свою старую приемную в кабинет. Там пред ним предстала ослепительная Кутунда в красном кружевном белье, с волосами, выкрашенными в платиновый цвет и высоко зачесанными; она, словно официантка, разносящая на коктейле закуски, протягивала сидевшему за столом мужчине проволочную корзинку с бумагами. А за столом сидел молодой человек с овальным лицом, который в свое время читал королю Коран. На нем по-прежнему была феска сливового цвета, и его лицо цвета черного дерева было все так же спокойно, только сейчас он держал в руке черный, отливавший голубоватой белизной револьвер.