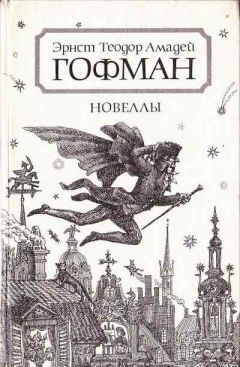Белькампо - Избранное
В качестве трагического для павших блох обстоятельства следует упомянуть, что место, где произошла баталия, называлось «Albergo della Расе» — «Приют мира».
Гавань в Джирдженти, Порто-Эмпедокле, вся в желтухе от серы. Повсюду видишь нагромождения серных глыб, приготовленных к вывозу. Ваши и мои серные спички тоже были тут, ибо почти весь экспорт серы идет отсюда.
Вечером, когда я сидел в кафе, вошел некий синьор, показывавший фокусы: сначала он проглотил шпагу, затем бильярдный шар. Когда шар опять выскочил наружу, то было похоже, что синьор снес яйцо, как птица. Публика дрожала от отвращения, но смотрела во все глаза. После представления артист ненадолго подсел ко мне; это был мадьяр из Венгрии, уже успевший наглотаться почти всех стран мира.
И вот я снова мчусь в автомобиле по стране. Наступала весна, Миндальные деревья вокруг стояли в цвету, возле Кальтаниссетты весь окружающий ландшафт — и горы, и долины — был затянут нежным бело-розовым покрывалом. Солнце начало снова поддавать жару, бродить по земле с каждым днем становилось все приятнее.
Между Джирдженти и Кальтаниссеттой я сошел у маленькой гостиницы, где за столом сидела разговорчивая компания. От усталости я не мог вымолвить ни слова и потому сделал вид, что не понимаю по-итальянски. Заговорили про тех, кто любит путешествовать по разным странам; самый речистый, заводила, стал науськивать общество против меня: «За таких вот путешественников Италия и расплачивается; идут себе в муниципалитет и забирают наши денежки, а мы тут подыхай с голоду». Я с невинным видом писал письмо, но держался начеку, потому что он все больше входил в раж: видимо, то, что я умел быстро водить пером, бесило его до чрезвычайности. Теперь он изображал меня преступником, пустившимся по свету, чтобы избежать решетки. «Других засылают на галеры на пятнадцать лет, а эти пьют-едят себе до отвала». Он передразнивает, как немцы просят подаяния, и при этом кричит по-петушиному. Он заявляет, что все любители путешествий сплошная бестолочь, никакого от них проку, куски мяса с руками-ногами, комаров им только кормить.
Все дальше давал он себя увлечь потоку своих дурных соков, было прямо-таки увлекательно наблюдать, какую большую энергию человек обращает во зло. Хотя письмо давно было закончено, я продолжал писать, просто так, отдельные слова без всякой связи, чтобы только посмотреть на его извержение. Когда он наконец иссяк, я сказал: «Поскольку мы не размахиваем руками и ногами, то вы думаете, что мы ничего не думаем и не чувствуем, но это вовсе не так; мы сидим неподвижно, как деревянные истуканы, но наши головы полны мыслей, а наши сердца полны чувств. Северный темперамент отличается от южного. Вы не должны больше говорить, что мы просто куски мяса».
«Это мы, — ответил он неожиданно, — вы меня неправильно поняли, это мы куски мяса». После чего быстро перешел на другую тему и стал очень подробно и живо рассказывать историю Миньоны из оперы Тома.
В Кальтаниссетте на рыночной площади собралась огромная толпа, слушавшая через репродукторы Муссолини. Когда он кончил, я сел на террасе кафе и начал рисовать, чем тоже привлек внимание и собрал толпу, так что хозяин стал ворчать и сеанс пришлось перенести внутрь кафе.
Пройдя меж хлебородных гор, я остановился ввечеру на крестьянском дворе, где вместе с двумя пожилыми батраками в хлеву из общего деревянного корытца — каждый со своего борта — смог похлебать макарон в телячьем бульоне, а потом выудить перстами несколько кусков мяса из глубокого горшка. Это была картинка, достойная раннего Остаде,[64] когда благоденствие еще не излилось на Нидерланды. Сходство лишь усилилось, когда я нарисовал старшего из батраков и прикрепил портрет к балке под низкий потолок.
С той минуты я помчался галопом по Европе. Последний перегон пролетел в буйном, опьяняющем вихре впечатлений, тысячи образов и картин проносились мимо меня. Было ли это все в действительности? Наверное, было, кто же иначе смог бы вызвать этот колдовской мираж, если его не было в действительности; ничего бы не вышло, кроме жалкой шутки.
Целую ночь ехать через горы, потом Лентини, оттуда на мешках с мукой, часами глядя на залив Аугусты, бескрайнюю водную гладь, обрамленную далекой перспективой, которая внизу подо мной переходит в берег, а залив — в игрушечное море. Потом Сиракузы, этот волшебный город, это необъятное треугольное плато, где сотни улиц, тысячи домов и миллионы людей стали от времени настолько прозрачны, что их уже не видишь, где миллионы призрачных сиракузцев день за днем пытаются выдергать траву, которой проросли их дома. Но трава беззаботно растет себе дальше, ибо у призраков нет никакой опоры, им не за что ухватиться; когда светит солнце, они превращаются в тени, а когда опускается ночь — в легкий туман, призраки должны все сносить.
Но на вершине треугольника, обращенной в глубь острова, еще не истлело до прозрачности крупнейшее крепостное сооружение античной эпохи, с подземными ходами, оборонительными рвами и волчьими ямами. Там призраки до сих пор алчут сражаться, все как один в героическом порыве, ведь смерть им более не грозит.
Наконец видишь полуостров, на котором стоит современная Сиракуза, тихий маленький городок, с озерцом, где растет папирус, давным-давно завезенный сюда с Нила.
Неподалеку — Латомии, мергелевые катакомбы, с обвалившимися от землетрясения сводами, прохладные летом и теплые зимой; причудливые, с отвесными стенами провалы, в которых много цветов и тишины, каждый день заполняемые доверху солнечным светом, где никогда не дует ветер и никогда не томит жара.
Здесь же знаменитое ухо тирана Дионисия, вернее, ушная раковина, вытесанная в скале на высоту целого дома. Кто в нее войдет и прокричит что-нибудь, немедленно обратится в бегство, испугавшись собственного голоса. Я вышел из этого уха совершенно охрипшим, чуть ли не в клочки порвав свои голосовые связки, просто не мог остановиться, купаясь в собственном красноречии.
Самая дальняя точка этого грота соединялась с дворцом Дионисия, построенным на той же скале; прикладывая свое личное натуральное ухо к искусственному, тиран мог расслышать все до последнего слова, о чем говорили, даже шепотом, работавшие внизу подданные. Прежде молва утверждала, что таким образом Дионисий вовремя раскрывал плетущиеся против него заговоры и казнил виновных; теперь утверждают, что таким образом правитель Сиракуз осведомлялся о всех желаниях и нуждах народа, первые мог исполнять, а вторые облегчать раньше, чем кто-либо смел против него пикнуть хоть словечко.
ДОМОЙА теперь мимо Этны, Катании, Мессины; быстрые авто мчались все дальше на север, и я мчался с ними.
На пароме я переплыл Мессинский пролив и очутился в Калабрии, в пустынных краях, где еще водятся волки. Подумать только: спишь на свежем воздухе, а когда просыпаешься, на том месте, где еще вчера была твоя рука, видишь волчий хвост.
Сначала дорога как нельзя удачнее бежала вдоль берега; далеко в море маячил долговязый дымокур, вулкан Стромболи. Навстречу то и дело попадались женщины в ярких, точно крылья мотыльков, юбочках, весело развевающихся при ходьбе. На другой день — другая картина: теперь на женщинах поверх платьев еще верхние юбки, сзади завязанные в узел. От каждого шага этот узел описывает дугу в сорок пять градусов, отчего возникает впечатление большего изящества и пластики, чем есть в этих фигурах: мелочь, которая не надоедает, хотя здесь это носят все до одной. Я был тогда в Никастро; ночевать полез в стоявший на запасных путях товарный вагон, груженный досками. Когда я спал, к двери подошла станционная собака и облаяла меня. Больше за ночь с моим спальным вагоном ничего не произошло, я проснулся на той же станции.
Калабрийцы — самая темная народность Италии; может быть, именно они суть последыши загнанного в угол коренного италийского населения. Дня через два мне посчастливилось отыскать для ночлега прекрасное убежище — стоящий на отшибе водонепроницаемый сарайчик, в глубине я обнаружил закут, полный сена. Наверное, какой-нибудь барон не так рад своему замку и парку в сотню гектаров, как я был рад этому сарайчику и панораме окружающих полей в миллионы гектаров. До заката было полчаса, я еще мог поужинать, сидя в дверях, с чувством и толком расстелить постель и, прежде чем заснуть, увидел, как сгущаются сумерки и наступает ночь.
Когда я проснулся, по бревенчатым стенам вовсю сновали мыши. Лежа, я смотрел на них и думал: «Что же должна испытать вот такая мышка, когда она вбегает в комнату, где полно женщин. Представить себе, что входишь куда-нибудь и видишь там десяток существ, каждое ростом с Вестерторен,[65] и они начинают вдруг визжать и бесноваться от страха!»
Пробудился я в несчастливый день. Сначала, придя в Потенцу, я ничего не смог там заработать. Следующий на пути городок угнездился на крутой горе, которую обвивала дорога, и когда я по ней поднимался, то меня вдруг начали бомбардиров ать сверху большими камнями мальчишки, заранее приплясывая от радости по поводу моего убиения. В конце концов они так разошлись, что я их слышал, даже не видя. О, как я бушевал от ярости! Стоило ли многие годы опасливо шарахаться от велосипедов и автомобилей, чтобы пасть жертвой сорванцов! В бессильном гневе я слал им наверх проклятия и угрозы; ответом был издевательский смех и новый камнепад. Не оставалось ничего иного, как со всей поспешностью уйти из зоны обстрела. К счастью, мне это удалось, ибо камни летели теперь мимо цели. Сейчас я доподлинно знаю, что чувствует колонна экспедиционного корпуса, когда на пустынной дороге туземцы устраивают ей засаду и начинают бомбардировать сверху чем попало.