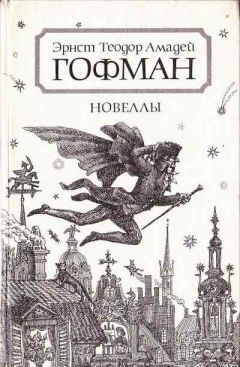Белькампо - Избранное
Из Палермо я направился в Партинико. Леса в этой местности нет, все горные склоны возделаны. Около полудня нагнал я двоих парней в красных фесках. Они оказались швейцарцами, прошли через всю Малую Азию и некоторое время работали в Константинополе и Смирне мастерами по изготовлению замков. Они рассказывали мне, что в Турции тоже происходит сращение правительственного аппарата с техническим. Может быть, такова общая линия развития? Не следует ли рассматривать организацию техники частными лицами в прошлом веке как переходную стадию, как детство индустрии?
Партинико — город с сорока тысячами жителей. В нем тоже одна главная улица, где нет даже кафе; на улицу выходят только грязные тропы с желобом для сточной воды посредине и одноэтажными домиками по обе стороны. Много тут не заработаешь.
Жители в основном из крестьянства, и когда я в наступающей темноте прошел город из конца в конец и снова очутился на дороге, то навстречу мне потянулась бесконечная вереница людей с поля, настоящее переселение народов, совершающееся каждое утро и каждый вечер. Пеших не было, одни сидели на повозках, другие ехали верхом. Я присел на обочину; выпавший с сумерками туман превратил это шествие в игру призраков: болтающих и смеющихся призраков, молчаливых, одиночных, грохочущих призраков-повозок, а один раз даже маленького воющего и грозящего призрака, все они возникали и тут же испарялись.
«Сорок тысяч жителей, — думал я, — четыре дороги ведут из города, то есть мимо меня должны пройти десять тысяч; немудрено, что им нет конца».
Со стороны города ко мне приблизились два призрака в фесках, те же швейцарцы. Мы еще немного вместе прошагали по дороге и улеглись на отдых, укрывшись от ветра за небольшой стеной.
Оба попутчика спозаранку отправились в путь. Когда лучи солнца высушили всю росу вокруг и заблистали уже довольно высоко в небе, я поднялся, сложил духовое одеяло, и в эту ночь спасшее мне жизнь, и спрятал его в рюкзак. Окружающий пейзаж не изменился; я вдруг почувствовал, что вполне сыт Италией, и задумался о своем будущем. Что мне делать, когда вернусь в Голландию? Скитаясь на чужбине, теряешь все знакомства, пробиться же собственными силами мужчине в наше время невозможно. Я принялся сочинять объявления, на которые бы клюнула удача. Сначала о будущей книге: «Молодой автор ищет издателя, который после прочтения его опуса бросился бы автору на шею со словами: „Эту книгу я должен издать во что бы то ни стало, даже ценой своего состояния!“» — такой вариант понравился мне больше всего. Когда же я расцвету на руинах издателя, мне захочется другого счастья. Тогда я примусь искать материнский тип женщины с помощью вот этого: «Молодой художник, страдающий комплексом неполноценности, ищет женщину, которая помогла бы ему этот комплекс преодолеть»; рациональный тип с помощью вот этого: «Одинокий молодой мужчина ищет одинокую молодую женщину, чтобы вместе не быть более одинокими»; риторический тип с помощью вот этого: «Солидный мужчина за тридцать ищет женщину, которая считает себя достойной приобщиться к его любви в полном смысле этого слова»; другие типы с помощью вот этого: «Молодой мужчина, уже испытанный жизнью, но вовсе не сломленный, ищет женщину, для которой отношения „от сердца к сердцу“ стоят на первом месте»; наконец, прочие типы женщин с помощью вот этого: «Молодой врач, недавно устроившийся в жизни, готов, в случае согласия, заключить брак со своей первой пациенткой».
Я был сыт Италией. Посмотреть еще на самое выдающееся здесь, а после — в другую страну. Днем я взобрался на пятитонку, груженную камнем, и пропел там следующее:
Жизнь улыбается мне снова,
Она была ко мне сурова,
Но минула пора ненастья,
И сердце прыгает от счастья!
Грузовик высадил меня у развилки, откуда дорога вела к храму Сегесты, одному из наиболее сохранившихся и красивых памятников древности. С бьющимся сердцем пошел я вперед и вдруг увидел на горном лугу это маленькое чудо. Я оставался около него весь день; рядом не было ни души, только пастух неподалеку пас овечье стадо.
Лишь вечером, когда уже темнело, пришли трое немецких юношей, в честь окончания гимназии получившие право на путешествие по Италии. Этот храм входит в обязательную программу их маршрута.
Преждевременное и обильное угощение классикой, по-видимому, на всю жизнь отбило им вкус к подобным вещам, так же как у нас это сплошь и рядом бывает с Гомером, Шекспиром и Мольером. Когда же наши менторы поймут, что к вершинам культуры человек может подступаться, только будучи зрелым, и то с сугубой деликатностью? Счастливы одиночки, что в зрелые годы случайно берут в руки классиков и, к своему великому удивлению и радости, находят в них не нафталин, а силу и свежесть духа. Счастье и то, что наших школяров по крайней мере не заставляют разбирать сочинения Баха, Моцарта и Бетховена, иначе бы Консертхебоу[59] пришлось закрыть.
Вчетвером мы поужинали и переночевали в Калатафими, первом встречном городке. Наутро я снова был в пути, сначала пешком, затем в кузове автомобиля, ехавшего в Кастельветрано. Над воротами кладбища я прочел надпись: Memento mori.[60] Непонятно, зачем она, ведь те, кого сюда вносят, все равно ее не читают. Эта мысль, очевидно, была не ко времени, так как я оказался на волоске от mori тем же вечером. Ничего не заработав в городке, я решил заночевать на свежем воздухе и в сумерки принялся искать у дороги какое-нибудь крытое местечко. Обычно в течение получаса мне попадался сарайчик, навес или пустой дом, но тут, как назло, ничего не было, и, когда совсем уже стемнело, я набрел на какую-то белую ограду, надеясь за ней укрыться. Я включил карманный фонарь и начал шарить вокруг себя лучом, как вдруг услышал рядом с собой окрик. Я зашагал на голос и вышел к бараку, возле которого человек пять солдат в ужасе сообщили мне, что, пройди я шагов десять дальше, меня бы застрелили часовые: я попал на территорию строго охраняемого порохового склада. Солдаты дали мне поесть. Они спали на деревянных нарах, и я спросил, нельзя ли мне переночевать с ними на таких же нарах. Немного посоветовавшись, они разрешили мне занять на ночь железную койку повара, но рано утром я должен исчезнуть: по приказу сверху штатским находиться здесь строго воспрещалось.
На другой день я побывал в Селинунте и был очень рад, что смог это сделать, не будучи застреленным. Там, на выдающемся в море плато, стоят один возле другого девять храмов, сложенных из таких громадных камней, что после разрушения все лежит на прежнем месте неколебимой грудой. Похоже, эти храмы и строили и рушили великаны. Колонны некоторых храмов упали каждая в свою сторону, иные же храмы, словно придавленные могучей дланью, просто опрокинулись и распластались по земле. Нигде еще не видел я такого большого и такого могучего падения. Я взобрался на обломок колонны и попробовал вообразить, как вокруг и в глубине гудела и дрожала земля и все живое искало спасения в бегстве. В воображении я видел, как, на мгновенье замерев в воздухе, обрушивались колонны и капители, фронтоны, триглифы и архитравы, как падающие колонны наваливались одна на другую и низвергались вместе на землю, порой же застывали ненадолго в объятии, пока их не увлекала за собою летящая следом балка. Я видел далее, как тяжелые балки срывались вниз между еще стоящими, но уже шатающимися колоннами; потом их разбивало на куски то, что валилось сверху, от удара само превращаясь в обломки. Балки падали отвесно, колонны описывали кривую, отбивая друг у друга вершины.
А потом вдруг наступила мертвая тишина, прерванная лишь падением последней колонны или глухими прыжками катящегося с горы тамбура.[61] Наверху сияло солнце, а вокруг было море; в незабываемом месте сидел я здесь.
Пройдя Шакку, арабское Шакках — на этом острове, за который пролиты реки крови, лежат рядом останки греков, карфагенян, римлян, арабов, норманнов, немцев, французов, людей эпохи Возрождения, — я увидел в поле целый лагерь из снопов скошенного жита. Я забрался в один из них и уснул.
На другой день я был в Джирдженти, ныне Агридженто, в древности один из богатейших городов земли. Теперь он, как пена схлынувшей волны, лежит на краю обширного плато, которое занимал некогда древний город.
Когда я вошел в город, уже вечерело. Гостиница, куда я забрел, показалась мне не слишком чистой, я поднял одеяло и, конечно же, обнаружил, что все поле простынь испещрено следами диких зверей. Простыни напоминали собой листки рукописи писателя-сумасброда, который, прежде чем написать хоть одну букву, уже расставил знаки препинания. Я не пролежал в постели и пяти минут, как по всем фронтам развернулось наступление. Притаившись на четверть часа в засаде, я неожиданно вскочил, включил свет и начал неистовствовать среди вражьих орд, как Самсон среди филистимлян. В пылу битвы я вдруг вспомнил, что именно в этих краях погиб Михил де Рёйтер.[62] Это придало мне нутряных сил; во мне вдруг пробудился голландский националист. «В кои веки, о Нидерланды, — воскликнул я, — вкусите вы наконец сладость мести за гибель величайшего паладина морей!» И в жестокой борьбе один на один, отринув с презрением современное оружие, истребил я всех супостатов до последнего. Если Мюссерт[63] умудрится на самом деле выиграть, ему нужно будет прибавить к национальной истории еще одну дату: 1934 — битва при Джирдженти.