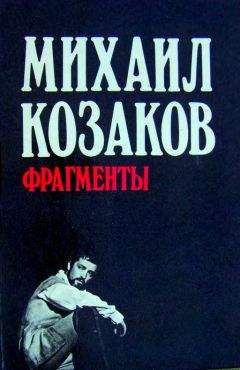Курцио Малапарте - Шкура
– Spam! Spam!
Одержимые неожиданным весельем, все бросились прыгать, размахивая руками, показывая на залепленные нитями жвачки зубы, прикидываясь, что не могут дышать и говорить, хватаясь руками за челюсти в попытке разжать их силой; я тоже скакал и прыгал, крича вместе со всеми:
– Спам! Спам!
Тем временем за холмами глухо, монотонно и жестко гремело «Спам! Спам! Спам!» вражеской артиллерии у Кассино.
И вдруг в зарослях оливковых деревьев раздался звонкий, свежий, смеющийся голос и, отскакивая от светлых, позолоченных солнцем стволов, донесся до нас:
– О-хо-хо! О-хо-хо!
Все замерли и повернулись на голос. В серебристом мерцании оливковых листьев, навстречу серому небу, усеянному зелеными пятнами, по красноватым камням и синим зарослям окутанного туманом можжевельника, по откосу медленно спускался негр. Это был высокий, худой парень с длиннющими ногами. Он шагал, чуть сутулясь, едва касаясь земли резиновыми подошвами, с мешком за плечами, и кричал, распахивая в красном оскале рот:
– О-хо-хо! О-хо-хо! – и качал головой, как если бы неизмеримое веселое горе жгло его сердце.
Раненый медленно повернул к нему голову, и детская улыбка озарила его лицо.
Добравшись до нас, негр остановился в нескольких шагах, опустил на землю мешок, зазвеневший бутылками, и, проведя рукой по лбу, сказал веселым голосом:
– Oh, you’re having a good time, isn’t it?[210]
– Что у тебя в мешке? – спросил сержант.
– Картошка, – ответил негр.
– I like potatoes, – сказал сержант. И, повернувшись к раненому, спросил: – Ты тоже любишь картошку, правда?
– Oh, yes! – сказал Фред со смехом.
– Парень ранен, он любит картошку, – сказал сержант – Надеюсь, ты не откажешь раненому американцу в картошке.
– Раненым плохо есть картошку, – ответил негр плаксивым голосом, – для раненого картошка – смерть.
– Дай картошку, – сказал сержант с угрозой в голосе, а сам тем временем, повернувшись к раненому спиной, делал негру глазами и губами таинственные знаки.
– Ох, нет, ох, нет! – заныл негр, стараясь понять знаки сержанта. – Картошка – это смерть.
– Открой мешок, – сказал сержант.
Негр стал причитать, качая головой: «Ой! Ой! Ой-ой-ой!» – но наклонился, развязал мешок и достал бутылку красного вина. Поднял ее, посмотрел против неясного, пробивавшегося сквозь туман солнца, прищелкнул языком и, медленно открыв рот и выпучив глаза, издал дикий возглас: «У-ха! У-ха! У-ха-ха!», подхваченный всеми с детской непосредственностью.
– Дай сюда, – сказал сержант.
Кончиком ножа он откупорил бутылку, налил немного вина в жестяной стакан, протянутый солдатом, поднял стакан, сказал раненому:
– Твое здоровье, Фред! – и выпил.
– Дайте и мне немного, – попросил раненый, – хочу пить.
– Нет, – сказал я, – тебе нельзя.
– Почему нельзя? – сказал сержант, искоса глядя на меня. – Добрый стакан вина ему не повредит.
– Раненому в живот нельзя пить, – сказал я тихо, – хотите убить его? Вино сожжет ему кишечник, он будет жестоко мучиться. Будет кричать.
– You bastard, – процедил сквозь зубы сержант.
– Дайте мне стакан, – сказал я громко, – я тоже хочу выпить за здоровье этого счастливчика.
Сержант протянул мне полный до краев стакан, я поднял его и сказал:
– Пью за твое здоровье, за здоровье твоих близких, за всех тех, кто придет на летное поле встречать тебя. Здоровье твоей семьи!
– Thank you, – сказал, улыбаясь, раненый, – и за здоровье Мэри тоже.
– Выпьем все и за здоровье Мэри, – сказал сержант. И, повернувшись к негру, приказал: – Давай остальные бутылки.
– Ох, нет, ох, нет! – заверещал негр. – Если хотите вина, идите добудьте сами. Ох, нет, ох, нет!
– И тебе не стыдно отказывать в вине раненому товарищу? Дай сюда, – сказал сержант жестким голосом, вытаскивая по одной бутылки с вином и передавая их своим.
Все достали из вещмешков стаканы, наполнили их вином и подняли.
– За здоровье твоей красивой, милой, твоей молоденькой Мэри, – сказал сержант, и все выпили за здоровье красивой, милой и молоденькой Мэри.
– Я тоже хочу выпить за здоровье Мэри, – сказал негр.
– Конечно, – сказал сержант, – а потом споешь в честь Фреда. Знаешь, почему ты споешь в честь Фреда? Потому что Фред через два дня улетает в Америку.
– Ого! – воскликнул негр и выкатил глаза.
– А знаешь, кто будет встречать его на летном поле? Скажи ему, Фред, – добавил сержант, обернувшись к раненому.
– Мама, папа, – сказал слабым голосом Фред, – и мой брат Боб… – он запнулся и слегка побледнел.
– … твой брат Боб… – сказал сержант.
Раненый молчал, он тяжело дышал. Потом сказал:
– … моя сестра Дороти, тетя Элеонора… – и замолчал.
– … и Мэри… – сказал сержант.
Раненый согласно кивнул головой и, медленно закрыв глаза, улыбнулся.
– А что бы ты делал, – сказал сержант, обращаясь к негру, – будь ты тетя Элеонора? Ты, конечно же, пошел бы встречать Фреда на аэродром, не так ли?
– О-хо! – сказал негр. – Тетя Элеонора? Да я не тетя Элеонора!
– Как? Ты не тетя Элеонора? – сказал угрожающе сержант, делая странные знаки губами.
– I’m not Aunt Leonor![211] – сказал негр плачущим голосом.
– Yes! You are Aunt Leonor![212] – сказал сержант, сжав кулаки.
– No, I’m not! – сказал негр, мотая головой.
– Да, да! Ты тетя Элеонора! – сказал, смеясь, раненый.
– Oh, yes! Конечно, я тетя Элеонора, – сказал негр, подняв глаза к небу.
– Of course, you are Аunt Leonor! – сказал сержант. – You are a very charming old lady! Look, boys! Смотрите, парни! Не правда ли, эта пожилая милая дама и есть тетя Элеонора?
– Of course, – сказали остальные, – he’s a very charming old lady![213]
– Look at the boy, – сказал сержант, – посмотрите на Фреда.
Раненый смотрел на негра напряженным взглядом и улыбался. Он казался счастливым. Румянец освещал его лоб, крупные капли пота оставляли следы на лице.
– Мучается, – сказал тихо сержант, с силой сжимая мне руку.
– Нет, не мучается, – сказал я.
– Он умирает, не видите, он умирает? – сказал сержант упавшим голосом.
– Он умирает спокойно, без мучений, – сказал я.
– You bastard, – сказал сержант с ненавистью.
В тот момент Фред издал стон и попытался подняться на локтях. Он стал очень бледным, краска смерти сошла неожиданно на его лоб, глаза потухли.
Все молчали, негр молчал тоже и смотрел на раненого с испугом.
Пушки глухо бухали внизу за холмами. Я увидел, как черный ветер бродит по оливам, окрашивая печальной тенью ветки, камни, кусты. Я увидел черный ветер, услыхал его черный голос и содрогнулся.
– Умирает, он умирает! – сказал сержант, сжав кулаки.
Раненый упал на спину, приоткрыл глаза и посмотрел вокруг, улыбаясь.
– Мне холодно, – сказал он.
Пошел мелкий холодный дождик, он с мягким шепотом падал на листья олив.
Я снял шинель и обернул ею ноги раненого. Сержант тоже снял шинель и накрыл ему грудь и плечи.
– Тебе лучше? Еще холодно? – спросил сержант.
– Спасибо, мне лучше, – ответил раненый, благодаря нас улыбкой.
– Пой! – сказал сержант негру.
– Ой, нет, – сказал негр, – я боюсь.
– Пой! – крикнул сержант, подняв кулаки.
Негр отступил назад, но сержант схватил его за руку:
– А, не хочешь петь? – сказал он. – Не будешь петь – убью!
Негр сел на землю и стал петь. То была грустная песня, плач больного негра: он сидит на берегу реки под белым снегопадом из хлопковых снежинок.
Раненый застонал, слезы потекли по лицу.
– Shut up! – крикнул сержант негру.
Негр замолчал и уставился на сержанта глазами обиженного пса.
– Мне не нравится твоя песня, – сказал сержант, – больно она грустная и ни о чем. Давай другую.
– But… – сказал негр, – that’s a marvelous song![214]
– А я тебе говорю, ты ничего не понимаешь! – крикнул сержант. – Посмотри на Муссолини, даже Муссолини не нравится твоя песня, – и показал пальцем на меня.
Все засмеялись, раненый повернул голову и удивленно посмотрел на меня.
– Внимание! – крикнул сержант. – Пусть говорит Муссолини. Go on, Mussolini!
Раненый смеялся, он был счастлив. Все тесно стали возле меня, а негр сказал:
– You’re not Mussolini. Mussolini is fat. He’s an old man. You’re not Mussolini[215].
– А-а, ты думаешь, я не Муссолини? – сказал я. – Смотри!
Я расставил ноги, упер руки в бока, покачал бедрами, отбросил голову назад, надул щеки и, выпятив вперед подбородок, отвесил губы и крикнул:
– Чернорубашечники всей Италии! Война, которую мы со славой проиграли, наконец выиграна. Наши любимые враги, откликнувшись на призыв всего итальянского народа, все-таки высадились в Италии, чтобы помочь нам побить наших ненавистных союзников немцев. Черные рубашки всей Италии, да здравствует Америка!
– Вива Муссолини! – прокричали все смеясь, а раненый вытащил руки из-под одеяла и слабо захлопал в ладоши.
– Давай, давай, – сказал сержант.
– Черные рубашки всей Италии… – крикнул я и замолчал, увидев группу женщин, спускающихся к нам через оливы. Некоторые из них были уже зрелые женщины, другие еще девочки. Одетые в рваную немецкую или американскую форму, с прилипшими ко лбу прядями волос, они направлялись к нам, привлеченные эхом нашего смеха, пением негра и, наверное, надеждой на какую-нибудь еду, выбравшись из своих развалин и нор, где по-звериному жили тогда все обитатели окрестностей Кассино. Они не выглядели попрошайками и держались гордо и с достоинством, и я почувствовал, как краснею: мне было стыдно. Мне было стыдно не за их оборванный, звериный вид, а потому что я чувствовал, что эти опустившиеся ниже меня женщины страдали сильнее, и, несмотря на это, в их взгляде, улыбке и движениях светилась более открытая и независимая гордость, чем моя. Они подошли и остановились, поглядывая то на раненого, то на нас.