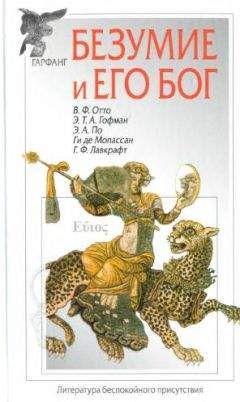Отто Вальтер - Немой. Фотограф Турель
— Борер, тихо! До приговора еще далеко. Все будет расследовано, можешь не сомневаться! Держи хвост пистолетом! Если правда кто-то спер у тебя твою кастрюлю, суд выведет его на чистую воду. Будь спокоен, не сомневайся. Мы хотим справедливости.
Ты сам не слишком сочувствовал Бореру. Парень он вообще-то неплохой, но эта история с канистрой — наверное, он ее просто потерял и никак не хотел в этом признаться, даже самому себе. Ему только на пользу пойдет, если ему слегка вправят мозги, а завтра с утра пораньше он взорвет макушку — макушку, которую иначе все равно придется взрывать весной и тогда уже кому-нибудь другому. Конечно, если ночью пойдет снег, то эта и так уж не слишком веселая работенка может стать более чем неприятной, подумал ты вдруг. Но потом все опять очень быстро завертелось.
Ты не замечал того, что происходило рядом. А между тем все это имело непосредственное отношение к вашей игре. Во-первых, старик Ферро: он стоял по другую сторону от Брайтенштайна и рукой нащупывал дверной косяк позади себя. Потом крепко вцепился в него. Во-вторых, Немой: он дрожащей рукой подносил украдкой к губам уже четвертый стакан; перед его глазами давно уже все колыхалось, но сквозь это колыхание он пристально смотрел в лицо старому Ферро. И в-третьих, вой ветра за окном, ветра, который гнал мимо окна и над крышей дождь вперемежку с первыми жидкими хлопьями снега.
ОДИННАДЦАТАЯ НОЧЬ
Было слишком поздно. Шумели всё больше, и Лот глядел на длинного Филипписа, который, пошатываясь, странно пританцовывая, прошел мимо него в глубь барака и повернулся на месте; держа стакан в руке, он улыбался улыбкой наркомана, одинокий танцор запрокинул голову, и кружился, пьяный, в клубах дыма, и выпевал своим чужеземным певучим голосом: «Суд найдет его, суд его найдет»; одно и то же повторял он, монотонно, нежно, в отдалении. Лот через плечо наблюдал за ним.
Рядом кто-то шепотом произнес: «Справедливость», и, повернувшись, он оказался лицом к лицу с Гаймом. Маленький, забитый человек, обычно тихий, как мышка, был охвачен лихорадочным возбуждением, пьяная маленькая мышка-очкарик; Лот посмотрел в это лицо, увидел, как мерцают расширенные зрачки, и услышал шепот Гайма, тихо и самозабвенно повторявшего: «Мы хотим справедливости. Мы хотим справедливости».
Он отвернулся. Слишком поздно. Слишком поздно, чтобы подумать или чтобы выйти, или лечь и завернуться в толстое шерстяное одеяло; слишком поздно, остается только сидеть и наблюдать за лицами то хохочущих, то хихикающих, то вновь разражающихся хохотом людей. И водка не помогала: внутри засело чувство ужаса, он оцепенел от ужаса и лишь слегка вздрагивал, когда его взгляд встречался с серьезными глазами Джино Филипписа или падал на пьяное, растерзанное лицо отца у дверного косяка, возле Брайтенштайна.
Брайтенштайн, теперь уже в третий раз, крикнул: «Всем встать! Каждый становись у своей койки со стаканом в руке!» — и он понял, что этот приказ относится также и к нему. И под пение и смех он встал и со стаканом в руке направился в глубь комнаты. А смех Брайтенштайна — как пулеметная очередь в спину.
И вот уже Брайтенштайн кричит:
— Борер, встань на скамью! Следи за каждым движением. Ты будешь надсмотрщиком. Отличный надсмотрщик, верно? Ты, Муральт, иди в тот конец, а Ферро будет сторожить дверь. Быстро! Все готово?
Все было готово минуты через три. Филиппис, думал Лот, господи, Джино Филиппис, что у него на уме, и в его ушах возник голос Филипписа, говоривший за стеной кухонного барака: «Хитро? Еще бы нехитро… чтоб он знал на будущее, что за воровство по головке не гладят»; но кажется, пока Филиппис ничего делать не собирался; он стоял, как и другие, перед своей койкой, смеялся, поднимал стакан, он тоже был пьян, но когда Брайтенштайн в своей чудной страшной шляпе сделал несколько шагов и крикнул: «Все ясно?! Расследование начи… начинается!» — Джино Филиппис поднял руку.
— Стоп! — воскликнул он, обращаясь к Брайтенштайну. Голос у него был пронзительный, он прорвался сквозь шум, и на мгновение стало тихо.
Брайтенштайн посмотрел на него:
— В чем дело?
— Может, кто-нибудь, — сказал Филиппис, — хочет еще что-нибудь сказать.
— Вот отмочил, — послышался от двери голос Самуэля.
А Брайтенштайн:
— Не понимаю, куда ты клонишь. Суд…
Но Филиппис перебил его:
— Нет, я имею в виду… Может, кто-нибудь знает, в чем дело, и сейчас признается суду. Может же такое быть, верно? Ведь если кто-нибудь сейчас добровольно признается, ты смягчишь ему наказание, верно, Брайтенштайн?
Брайтенштайн посмотрел на Муральта, потом на отца, караулившего дверь:
— Что думает по этому поводу суд?
Но не успели Муральт или отец ответить, как Филиппис продолжал:
— Может, кто-нибудь что-нибудь знает, может, он даже хочет сказать? — Филиппис медленно повернул голову к Лоту, поглядел на него и закончил: — Но не может. — Лот увидел глаза Филипписа. Глаза, смеющиеся и угрожающие. Он знал, что думает Филиппис. Его горло сжималось, все смотрели теперь на него, а ведь он не виноват, он не имеет отношения к пакету под кроватью, где хранятся его вещи, он — нет; почему к нему направляется Брайтенштайн в своей жуткой шляпе и смеется этим неестественным смехом, почему вдруг стало так тихо, и только гул за окном звучит в ушах, и почему отец стоит на месте, почему не подходит прямо сейчас, сию же минуту; и Лот ткнул себя рукой в грудь и изо всех сил затряс головой: «Нет, не я».
«Стоп!» — голос Самуэля. И тут же Борер со своего наблюдательного пункта: «Стоп, одного не хватает. Ферро исчез. Суд…» Его слова потонули в новом взрыве шума. Все бросились к двери. Голос Самуэля раздавался уже из тамбура: «Ферро! Ферро!» И если бы Брайтенштайн, у которого была луженая глотка, не растолкал всех, не пробился к наружной двери, не отогнал от нее Гримма, Керера и Кальмана, который еле держался на ногах от смеха, и не захлопнул дверь, все бросились бы в погоню за Ферро.
— Ничего! — кричал Брайтенштайн. — Давай все назад. Каждый на свое место. Положить манатки на койки. Открыли мешки и чемоданы! Ферро я сам займусь. Наверное, блевать пошел, — добавил он. — Давайте дальше!
В тамбуре послышались голоса Самуэля и Керера. Дверь распахнулась, и Лот увидел отца. Подталкиваемый Самуэлем, отец, шатаясь, подошел к столу. Остановился. Он успел вымокнуть под дождем. Голова свешивалась на грудь. Кажется, он в чем-то убеждал его, но понять ничего нельзя было, потому что Самуэль все время кричал:
— Дальше, дальше давайте! Где водка?
А Гримм:
— Что у нас сегодня, последний вечер или нет? Кальман, скажи-ка!
Он взял со стола оплетенную бутылку и разлил водку по стаканам, протянутым Самуэлем, Кальманом и Борером.
— Давай, Немой, скорей! — услышал вдруг Лот голос Джино Филипписа. — Ты остолоп. Она же у тебя, давай. — Филиппис наклонился к Лоту, дохнув на него водочным перегаром. — Давай ее мне, и мы положим ее под пустую койку Шава. Они же все пьяные в дым. А завтра, когда будем уезжать, я им расскажу, тогда это будет уже неважно, да и к тому же они протрезвеют. А сейчас скорей давай, — он подмигнул, и Лот увидел, как он быстро прошел мимо него к пустой кровати, сел на корточки, стал шарить, обернулся, поманил Лота к себе, еще поискал и вдруг резко спросил: — Где она у тебя?
У стола уже снова раздался голос Брайтенштайна:
— Эй, давайте скорее, алкаши вы несчастные! Все манатки на койку! — Но Лот ничего не понимал, он присел на корточки рядом с Джином Филипписом и пытался в полумраке разглядеть под кроватью пакет. Его чемодан. Рюкзак, ботинки. Пакета не было. Лот посмотрел на Филипписа. Он покачал головой, указывая при этом на себя. Потом Филиппис вытащил чемодан, а Лот — рюкзак.
Над ними раздался голос Муральта:
— Эй вы, что вы так закопались? Манатки на одеяло!
Он смеялся, и Лот увидел в его глазах какой-то странный блеск. Оба встали, положили чемодан и рюкзак на кровать Лота, и Филиппис отошел. Ее нет, думал Лот, канистры нет, отец убрал ее, и на мгновенье чувство ужаса внутри отпустило, и ему даже удалось рассмеяться, когда Брайтенштайн в сопровождении Муральта подошел к нему и воскликнул:
— Отвечай суду. Все ли это, что у тебя есть? — Он указал рукой на вещи, лежавшие за спиной у Лота на кровати. — Открыть.
Муральт помог ему открыть чемодан. Брайтенштайн сказал:
— Ничего нет. Следующий.
Теперь стало потише, и, перейдя к Луиджи Филиппису, Брайтенштайн сказал то же самое, и все засмеялись. Расследование продолжалось. Муральт вернулся и перерыл вещи отца, лежавшие на свободной койке: два чемодана и рюкзак, потом он снова прошел мимо Лота. При этом он слегка подтолкнул его локтем, указал на перевернутую судейскую шляпу Брайтенштайна и постучал указательным пальцем по лбу. Ненормальный, мол.