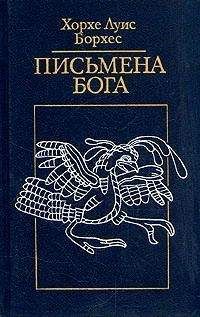Нил Гейман - Сошедшие с небес
В прошлом месяце, когда шквальный ветер швырял в меня со всех сторон снегом, клянусь, я видел в этом снежном аду моего братца, он с криком убегал от чего-то страшного, его длинные ноги увязали в глубоких сугробах, а он все оглядывался и глядел на меня умоляющими глазами. Он кричал мое имя, я видел это по его губам, хотя и не слышал через поднятые стекла. Зато я вспомнил, как он умер. В другое время я предпочел бы не думать об этом. Но сейчас не получается.
Стоит только попасть сюда, и подожди, все припомнишь.
Я видел и других людей в жадно падающем снегу, хотя знаю, что их давно нет. Они глядят на меня беспомощными глазами, когда свет моих фар выхватывает их из белизны, а решетка радиатора крушит их плоть и кости, и их затягивает под днище грузовика. Но я знаю, что это лишь миражи.
Большая Пустота.
Так говорят здешние дальнобойщики. Это значит, что внешний мир сливается с твоими мыслями — опасное сочетание, подрывающее разум. Иногда снеговая россыпь принимает форму человеческого тела. Молочно-белые силуэты, без подробностей, но почему-то ясно, что они чего-то хотят. Усталость порождает черные мысли; всякий дальнобойщик и водитель большого грузовика это знает. Мозг — штука сложная, и детство вроде моего тут не подмога. Даже ангелы страдают. Бог позаботился об этом по одному Ему ведомым причинам.
Достало меня все.
Когда я слишком долго не сплю, мой мозг слабеет, и я иногда представляю, как скатываюсь с дороги и погибаю в моей крутящейся волчком фуре. Я тихо истекаю кровью на морозе, а белоснежные фигуры обступают меня, не давая дышать. Я отбиваюсь от них, но всегда уже слишком поздно. Ангелы не могут умереть, но я все представляю.
Один психиатр в том месте раз объяснял мне, что это все проекции. Как в кино. Луч света проходит сквозь пленку и увеличивается на экране. Вроде бы он говорил, что мысль и вера имеют такую же способность. Только он и понятия не имел, с кем имеет дело.
Я подъезжаю к Айс Кату, крутому подъему меж двух обрывов, и крепче берусь за руль. Когда я разгоняюсь, мои шины со свистом рассекают скованную морозом поверхность, и я мчусь по ней, как огромный конек, а мой след тут же исчезает, так быстро восстанавливается лед. Фура грохочет дальше, я жую «Баттерфингер» и поглядываю на спидометр. Я иду с опережением графика, так что могу позволить себе остановку, если понадобится. Слизываю шоколад с пальцев и смотрю, не видно ли огней другой машины впереди или сзади. Внимательно вглядываюсь в полотно дороги, не висит ли над ней дымный след, ничего не вижу и понимаю, что оторвался от всех.
Я медленно торможу, один.
Есть в этих местах что-то грустное. Иногда я слышу волков, горюющих в пустоте. Если посидеть в тишине и прислушаться, то можно уловить журчание бессонного потока, бегущего подо льдом. Но чаще всего я не слышу ничего, ведь ветра злятся и пихают мою девятиосную фуру так, словно она здесь незваный гость. Взглянув на часы, я понимаю, что надо шевелиться. Натягиваю на себя кожаные перчатки, парку и очки, оставляю мотор на малых оборотах и выхожу.
Воздух леденит мне лицо, а ветер воет и путает снег, так что огни моих галогеновых ламп оставляют янтарно-желтые сполохи на сгустках снежинок. Дизель выпускает клубы призрачного дыма из двух хромированных труб прямо мне в лицо, когда я наклоняюсь к дверце под моим водительским местом, отпираю ее и достаю оттуда дрель для бурения льда. Вытащив ее из чехла, я быстро выбираю недалеко от фуры место, где лед потоньше, и топаю туда. В пятнадцати милях позади меня на гребне перевала замаячили фары; другая машина будет здесь минут через десять.
Я снова бросаю взгляд на часы, хватаю дрель обеими руками и втыкаю пятифутовый наконечник в лед. Высокий вращающий момент и скорость бурения позволяют мне работать быстро. Зубастый наконечник вгрызается в твердый лед, и под бешеную песню ветра я начинаю бурить пятнадцатидюймовую полынью. От вибрации у меня дрожат руки, крошки льда засыпают мои непромокаемые ботинки. В пяти футах подо мной вращающаяся коронка достигает воды, я останавливаю дрель, вынимаю ее и заглядываю в отверстие. Кладу дрель в футляр и отношу его обратно в хозяйственный отсек. И вытаскиваю из него перетянутый ремнями холщовый мешок.
Открыв его, я начинаю сгружать его содержимое в дыру.
Я в этих краях как дома Ангелам присуща власть над миром естества, даже когда люди не понимают, что их время пришло. Ад — это особое состояние ума, которое каждый навлекает на себя сам, и люди, черт возьми, должны получать то, что заслужили, нравится им это или нет.
Когда я работаю, то люблю, чтобы снег падал слышно; как приглушенный дождь. Иногда то, что я сбрасываю вниз, уходит легко, соскальзывая в воду под ледовой дорогой. Иногда приходится поработать ножом, чтобы оно пролезло. Когда мешок пустеет, я снова заполняю полынью снегом, забрасываю его туда ногами, притаптываю тяжелыми подошвами. Сверху тоже каскадами сыплется снег, и дыра затягивается, как по волшебству, а я возвращаюсь к моей простаивающей фуре.
Я наблюдаю, как звезды борются за место на облачном небе. Спасибо Святому Отцу. В Книге Бытия, 18, Авраам приветствует гостей-ангелов, которые кажутся ему простыми путниками. Истина прячет себя, когда это необходимо.
Я включаю верхние противотуманные огни, они начинают испускать болезненный рассеянный свет, и в этот миг другой грузовик проносится мимо, ослепляя меня светом дальних фар, так что я опускаю щиток на переднем стекле, чтобы прикрыть глаза. Но в откидное зеркало не гляжу, как всегда. Молитва не в силах исправить искореженную плоть. Я научился жить с яростью и стыдом. Ангелы, которые казались людьми с особыми чертами, существовали всегда. Но я ненавижу Бога за то, что он позволил такой фигне случиться со мной.
Мои шины оставляют на земле следы, похожие на грязные вафли, а снег тут же заваливает их, словно меня и не было здесь никогда. Снег похож на время. Он покрывает все, к чему прикасается, новым слоем значений, которые заменяют прежние и те, что были до них. В этих краях снег забеливает все, и здесь, на 414-й миле, навеки недоступной, находится территория временных фактов, приблизительных доказательств.
Не считая огней, которые движутся мне навстречу в нескольких милях отсюда, Большая Пустота теперь искриста и черна, а я приближаюсь к Прудхо Бей. Я смотрю на широкие лучи, на линии прыгающих точек. Дальнобойщики зовут ее Молнией и клянутся, что если смотреть на нее достаточно долго, то она проникает к вам внутрь; дурные дела творит. Когда я подъезжаю к Дедхорсу, уже 3.36 утра, температура минус семнадцать. Высокие натриевые фонари стоят вдоль дороги, деревьев здесь нет совсем, только машины, механические тени повсюду. Даже церкви нет. Этим все сказано. Там, где нет Бога, правят своеволие и боль. Я это видел.
Из промышленных зданий клубами валит пар, рабочие уже на ногах, ходят повсюду, одетые в парки; они работают сменами, по двадцать четыре часа, изможденная армия живых мертвецов, выброшенных из времени, забытых друзьями и родными, которые ненавидят их. Большинство из них лгут. Никто не умеет любить. Вахтовиков тысячи, местных человек двадцать пять. Это бездушная транзитная тюрьма, и если бы они знали, кто я, то пали бы передо мной на колени и молили о прощении.
Пусть умрут за грехи, которым поклоняются.
Я оставляю свою фуру в транспортном дворе, получаю деньги, иду в столовую поесть горячего, потом беру комнату в отеле Прудхо Бей, приземистой одноэтажке в центре здешней зоны.
Замороженный океан тихо плещется неподалеку без видимых приливов и отливов, а местный скобяной магазин торгует двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, даже в метель. Политика у них такая — если чего в продаже нет, то никому это и не надо. Я захожу купить у них пару перчаток и сменные лезвия для ножовки. Возвращаюсь к себе в комнату.
Пробую уснуть.
Сугробы намело вровень с подоконниками, я пью скотч и смотрю поверх них на септические клубы дыма с нефтеперегонного завода Прислушиваюсь к обрывкам ссор, которые доносятся из баров, когда там открываются двери. Смех и алкогольное безумие. Яростное отчаяние в голосах, их жалкий, жадный шум. Все они прокляты. Они станут больны, и опустошатся, и агония пожрет их.
Отрава к отраве.
Из своего окна я вижу бескровное пространство, уходящее к Фэрбенксу. Я меряю его отупляющую монотонность красными от напряжения глазами. Ненайденные фрагменты подо льдом. Искаженные страхом лица, изломанные конечности, рваная плоть. Парами и поодиночке. Я представляю, как они лежат под бескрайним льдом, там, где и должны быть, наконец. Там они всегда останутся одинаковыми, никогда не испортятся, не смогут принимать неправильные решения, коверкать жизни. Я спас их. Если бы они могли, то восстали бы из многочисленных отверстий, которые я пробурил, исходя паром и скорбью, стеная о прощении. Но поздно. Неисправимым спасения нет.