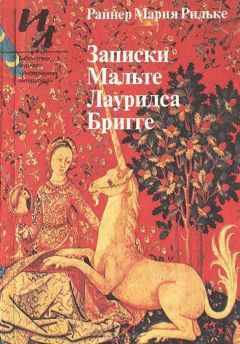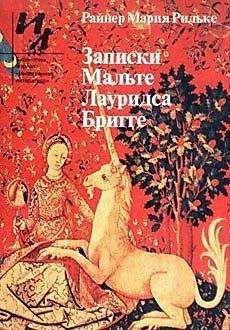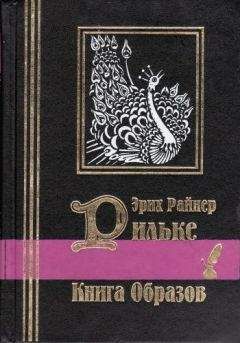Стефан Хвин - Ханеман
Когда на тротуаре раздавалось постукиванье пробковых танкеток, он говорил себе, что не подойдет к окну. Брал книгу, но, когда начинал читать, между строк мелькало ситцевое платье, в шелесте переворачиваемых страниц слышался теплый шелест цветастой ткани. Он старался следить за смыслом фраз, но она бесцеремонно разгуливала по тропкам готического шрифта, расталкивала заглавные буквы, перескакивала со страницы на страницу по мостикам абзацев и громко смеялась. Он закрывал глаза, за окном стихали быстрые шаги, она шла по дорожке между туями, крича что-то пани Вежболовской. Громче обычного? Что за чепуха. Он вставал, закрывал окно. Его раздражало это непринужденное звучание голоса ни тени стыда или тревоги. Он морщился: как можно быть такой бесчувственной, такой - он поискал подходящее слово - толстокожей. Ведь от того случая в ней ничего не осталось, как будто - подумал мстительно, сам от этого развеселившись, - как будто у нее вообще нет души. Души? Он ловил себя на том, что совершенно безосновательно на нее сердится. Душа? Что ему до ее души? Он, наверное, спятил. Она через многое прошла и, вероятно, этим своим смехом, который так его раздражает, защищается ото всего, что могло бы ее ранить. Обида? Ведь ему ничего от нее не нужно. Да и далеко ей... Он смотрел в окно с нескрываемой неприязнью. Снова брался за книгу, с удвоенным вниманием вчитывался в письмо Клейста Генриетте, но через несколько минут страница опять превращалась в каменный тротуар и он опять слышал на этот раз уже более тихое, приглушенное, отдаляющееся постукиванье пробковых подошв. И еще эти гибкие пальцы, убирающие волосы за ухо...
Что-то давнее, от чего он изо всех сил отгораживался, что-то очень, очень болезненное исподволь проникало обратно в сердце. Воспоминание другого лица, обрамленного светлыми волосами... Однако по страницам книги, испещренным готической вязью, упорно проплывали каштаново-золотистые живые тени. Шелест цветастого ситца. Взмах руки. Розовые ногти. Ресницы. Это были даже не образы - скорее, нежные, дразнящие прикосновения запаха, более легкие, чем дымка дыхания. Готический текст чернел на страницах, взгляд скользил по абзацам - но мысли! Он пытался отогнать наваждение смехом. Ведь если он и думал о ней, то не о такой, какой она являлась взгляду, а обо всем по отдельности: впадинка над ключицей, опушенный светом висок, голый локоть, колено, пальцы. Это было забавно и отравлено ядом, кровоточило...
Возвращались слова Анны, ее белая шляпа, тот прекрасный день, когда она, держа его за руку, говорила: "Ведь так жить нельзя". Значит, это ненависть, гнев, сожаление о том, что какая-то сила вновь затягивает его в водоворот жизни? А куда бы лучше было, взяв с нее пример, относиться ко всему легко. Он же видел: то, что - нехотя признавался себе - взволновало его до глубины души, ее даже не задело. Ему бы хотелось, чтобы она почувствовала такое же, едва ощутимое, унижение, такую же горечь. Он имел право ее ранить. И, подумал, это не составило бы труда.
А потом он прогонял это дурацкое желание. Ведь тогда, на лестнице... эти дрожащие губы, руки, крик... Какая уж там холодная сила. Она давно носила в себе боль, он тут был ни при чем. Неприязнь? Сердце ни с того ни с сего, как танцовщица, совершало стремительный пируэт. Он обнаруживал в себе целые пласты нежности, о существовании которых даже не подозревал. Он готов был спуститься вниз, чтобы раз и навсегда во всем разобраться. Он уже видел, как светлеет ее лицо: "Нет-нет, ничего не случилось. Это все нервы. Не уходите, побудьте еще минутку". Но тотчас вспоминал Мамину просьбу пока воздержаться от посещений, потому что любой разговор только разбередит раны, и снова брался за книгу, проверял тетрадь Анджея, подчеркивал красным карандашом ошибки, старался с головой погрузиться в это бесплодное занятие... Однако она вновь появлялась в его комнате, рассекала льющийся из окна солнечный поток, в прозрачном воздухе медленно проступало темное сверкание залива, поправляя волосы, в цветастом платье, с блестящей сумочкой, она шла по кромке пляжа в Глеткау к пристани, Ханеман ощущал закрадывающийся в сердце страх, с ужасом смотрел, как она подходит к пустому молу, как поднимается на дощатый помост, а там у причала стоит этот белый пароход с высокой наклонной трубой, он хочет схватить ее за руку, оттащить обратно на пляж перед гастхаусом, но она его не видит, она идет по просмоленным доскам прямо к белому пароходу, отбрасывая назад пронизанные солнцем и оттого кажущиеся золотыми волосы, на палубе никого нет, до трапа еще несколько шагов, Ханеман слышит стук каблуков по доскам причала, размеренный, все более громкий, сердце сейчас выпрыгнет из груди, он хочет продраться к ней сквозь завалы воздуха, протягивает руку, хватает ее за рукав, но Ханкина рука тает, как клочок тумана, пальцы сжимают пустоту, белый пароход растет на глазах, кренится набок, Ханеман заслоняет голову руками, потому что черный борт с надписью "Бернхоф" нависает над ним как стена рушащегося дома, он заслоняет голову, потому что сверху, с горящей палубы, прыгают дочки госпожи Вальман, камнем уходят под воду, широкое огненное пятно расползается вдоль борта, дым, пламя, чья-то вытянутая рука, взгляд, чей-то крик, плач, а он стоит в лодчонке, в которой может уместиться только один человек...
Пустая кровать
"Ты спрашиваешь, где она его нашла? - пан Ю. задумывался. - Я кое-что слыхал, хотя, знаешь, как оно бывает, когда тебе рассказывают о давних делах, про которые, возможно, хотелось бы забыть..."
Мало кто тогда забредал на холмы за вокзалом, где в глубоких котлованах были кирпичные казематы, прусские форты, поросшие кустами терновника, полынью и пыреем. Говорили, что там полно мин и даже что под землей до сих пор сидят немцы; некоторые клялись, что видели их собственными глазами. Но в ноябре кто-то углядел между деревьями свет, огонек, мерцающий в расщелине стены, и туда отправились двое из отделения на Картуской, сняли винтовки с плеча и по крутому склону, ломая ветки, спустились прямо к кирпичной стене. Топча разбитое стекло, вошли в коридор с бочкообразным сводом, но огонек растворился в темноте - сырой, пропитанной запахом смолы и размокшей бумаги, - из глубины повеяло тишиной подземелья, они чуть не повернули обратно, ведь это мог быть всего лишь отблеск огней города на остатках стекла в оконце. Но все-таки задержались возле железной двери, ведущей в каземат, постояли две-три минуты, не шевелясь, целясь из винтовок во мрак, а когда уже решили уйти, поскольку ничто не нарушало тишины, в дальнем конце коридора послышался шорох, потом шаги - испуганные, торопливые, - звякнула опрокинутая консервная банка, что-то покатилось по кирпичному полу, они крикнули: "Стой!", но шаги стихли, тогда они с зажженным фонариком вошли в кирпичный туннель, свет фонарика уткнулся в наклонную стену, поворот, они миновали железные ящики, из-под ног выкатилась артиллерийская гильза, в черных лужах валялись холщовые лямки, каски, снова звяканье, впереди опять что-то зашевелилось, они крикнули: "Выходи!", но голос, не оставляя эха, утонул в кирпичной трубе, тогда они осторожно свернули в более широкий отсек с пометами огня на стенах, сажа, они подняли винтовки, свет от фонаря проплыл по нагромождениям ящиков, под потолком мертвенно сверкнули лампочки, висящие на голых проводах...
Они увидели его в куче армейского обмундирования. Он лежал под скомканными шинелями в ворохе гимнастерок, брезентовых плащ-палаток, противогазных сумок. С. откинул полу шинели: "Ты почему убегал?" Но мальчик, скорчившийся, с подтянутыми к подбородку коленями, дрожал от холода, и С. снова набросил на него шинель - пахнущую теплым влажным сукном и давно не мытым телом. "Нельзя тебе тут сидеть. Тут могут быть мины". Мальчик, однако, не шелохнулся. С. потряс его: "Вставай". "Оставь его", - буркнул В. Они сели на ящик, закурили. Через несколько минут мальчик оторвал ладони от щек: темное лицо, смахивающее на цыганское, как им показалось в свете фонаря, серые от угольной пыли щеки, всклокоченные волосы. "Ну, вставай", - сказал С., затаптывая окурок. Мальчик опять заслонил голову, но выполз из-под шинелей и бросился к железной двери, однако В. оказался проворнее, схватил его за полу куртки, придержал; извивающегося мальчишку вынесли из форта на снег, обрядили в длинную, волочащуюся по земле шинель солдата вермахта и по петляющей в зарослях терновника обледенелой тропке повели в город.
Они не знали, что с ним делать. Был уже поздний вечер. С. хотел взять его к себе, в Орунь, на Восточную улицу, но по дороге в отделение мальчишка вырвался из рук, нырнул в развалины и исчез между разрушенными домами. Быстрые шаги, хруст щебня, эхо. Это произошло мгновенно. Они искали его до полуночи...
Не его ли увидела Ханка несколько дней спустя на маленькой площади перед вокзалом, между пристройкой с билетными кассами и общежитием для ночлега сменных бригад проводников, когда, направляясь к перрону, поравнялась с кучкой людей, греющихся у железной печурки? Мужчина в желтой меховой ушанке, длинной шинели и валенках, сидевший к ней лицом, пальцами в шерстяных перчатках перебирал лады русской гармони: из мерно растягивающихся мехов вылетали то высокие, то низкие, как плач ветра, звуки мелодии - задорной и заунывной, благостной и тревожной. "Росла калина, шумя листвою, в роще росла над синей водою..." Кто-то лениво притопывал в такт или, скорее, от холода (потому что тротуар уже заиндевел), но музыкант не обращал на это внимания, смотрел только в огонь, будто вокруг никого не было. Лишь минуту спустя поднял глаза, сильным размашистым движением извлек из гармони похожий на фанфару аккорд и кому-то кивнул. Именно тогда Ханка впервые увидела мальчика: в черной куртке, с обмотанным вокруг шеи шарфом, он выскользнул из-за спины старика.