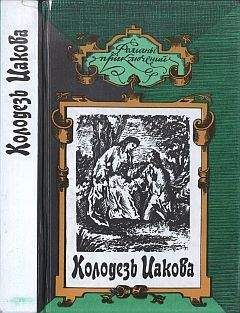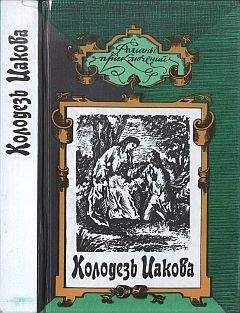Онелио Кардосо - Онелио Хорхе Кардосо - Избранные рассказы
— Ха! Ха! Ха! Вот она я!
На вершине горы, в расщелине которой лепилось селение, показалась голова огромной жабы, будто плетью щелкавшей огромным языком.
— А ну, живо сдавайтесь все!
Обитатели селения даже сдвинуться с места не могли от ужаса, но потом собрался комитет и принялся размахивать белым лепестком. Во главе комитета, дрожа с головы до зазубренных лап, стоял алькальд.
— Сеньора, чем мы можем служить вашему превосходительству?
— Разнообразной и вкусной едой.
— Но нас не так уж много, ваше превосходительство, на полтарелки и то не хватит. — И, едва живой от страха, алькальд низко поклонился жабе.
Только пчелы не задрожали, потому что они много работают и знают, что такое борьба. Вперед выступила одна пчелка, бесстрашно крикнув:
— Послушай, ты, жаба! Ты влезла на гору, где стоит свободное селение.
— Вот еще, подумаешь, какое дело, — возразила жаба, немного помолчав.
— Думай не думай, а злые дела недолго живут.
— Ну, это мы еще посмотрим. — И жаба угрожающе двинулась вперед.
Но маленькие обитатели селения попрятались в норки, и жаба осталась ни с чем. Тогда, совсем раздувшись от злости, она заревела:
— Даю вам два часа на размышление! Или сдавайтесь, или я сотру вас с лица земли!
И вот часы принялись отсчитывать минуты и секунды. Наступил долгий, разукрашенный яркими красками вечер, который, казалось, станет последним для обитателей горного селения; стемнело, на небе зажглись звезды.
— Мы должны как можно скорее что-нибудь предпринять, — нервно суетился алькальд, пока наконец пчела не дала ему отпор:
— Ну уж вы-то ничего не должны предпринимать.
— Я ваш алькальд!
— Вы были алькальдом, — отрезала пчела, — но с тех пор, как вы назвали превосходительством эту скотину, вы уже не алькальд.
— Правильно, правильно! — проверещали сверчки.
Алькальд опустил голову, и все сразу увидели, что цилиндр ему велик, а жезл короток.
— Мы должны бороться, — продолжала пчела. — У кого есть план или какая-нибудь мысль?
Большая черная муравьиха выползла вперед и произнесла:
— Братья, чудовище влезло на гору, но за спиной у него ущелье. Если подкопать землю сзади, жаба свалится в пропасть.
— Браво! Чудесно! Лучше не придумаешь! — закричали все.
Но пчела, поразмыслив, сказала:
— Нет, это невозможно: жаба увидит, как мы огибаем гору.
— Пожалуй, правда, — согласилась муравьиха, а рыжий муравей вытер платком холодный пот со лба.
— Так что же нам делать? — прошептал юный сверчок; он был еще совсем белый, потому что жил под камнем.
Серьезный вопрос — как одержать верх над чудовищем, если оно само не упадет вниз.
Воцарилось долгое молчание. Но вдруг все увидели, что светлячок снова зажег свой фонарик. Маленький народец в надежде обернулся к нему.
— Братья, а цикада! — воскликнул светлячок.
— Что?
— Да ее музыка, которая делает добрее сердце друга и парализует волю врага!
— Такого зверя — вряд ли, — заметила бабочка.
И все же светлячок, который обычно сначала хорошенько думал, а уж потом зажигал фонарик, не сдавался:
— Нам ведь нужно, чтобы чудовище только чуть-чуть задремало, лишь немного сомкнуло веки, и тогда мы сможем перебраться на ту сторону горы и подкопать ее.
— Вот это вполне возможно, — согласилась пчелка и радостно спросила: — А где кума цикада?
Но о цикаде давно уже все забыли. Тогда алькальд сунул руку в карман черного пиджака и, дрожа, вытащил ключ от тюрьмы.
— Вот до чего ты дошел, даже в тюрьму ее посадил! — воскликнула пчела и, вырвав у жука ключ, полетела к тюрьме.
Она открыла дверь камеры и увидела, что цикада сидит за столом и что-то пишет на нотной бумаге.
— Если ты пишешь завещание, сестрица, то забудь о нем!
— Завещание? Кто сказал такую глупость? Я пишу песню, когда-нибудь ее споют.
Растроганная пчелка уронила слезу, но тут же взяла себя в руки, потому что сейчас было не до слез.
— Сестра, сегодня, как никогда, нам нужна твоя музыка. Хочешь помочь нам спасти наш народ?
— Пойдем, — просто ответила цикада и взяла скрипку.
На небе уже занималась утренняя заря, когда цикада вошла в свой дом и почти под самым носом у жабы настежь распахнула окна. А внизу рыжие и черные муравьи, сверчки, бабочки и улитки, словно солдаты построившись в ряды, ждали ее песни.
И вот из окон дома полилась прекрасная музыка, уносившаяся к небу. В ней звучала сила народа, единая боль всех за одного и одного за всех.
Огромная жаба издевательски улыбнулась, но потом мало-помалу что-то стало сковывать ее тело, а веки опустились, словно тяжелый складчатый занавес. И тогда все вышли из засады, обогнули гору и быстро, дружно принялись копать землю, пока кто-то не крикнул: «Назад!» Земля поползла вниз, и жаба покатилась в пропасть навстречу смерти.
С тех пор нет дня, когда бы народ не пел во время работы, и нет вечера, когда бы не танцевали под звуки песен.
Давно уже умерла юная цикада, но в самой середине площади ей воздвигнут памятник. Она стоит, склонившись над скрипкой, и поет бессмертные песни своего народа.
1962.
Вторая смерть Кота
(Перевод Э. Брагинской)
Роблес сидел на корме, резко откинувшись назад, и смотрел, как занимается утро. Кончиками пальцев правой руки он придерживал лесу, а левой, согнутой в локте, опирался о банку. Желтый шар солнца медленно всплывал на краю моря. Роблесу это привычно. Он мог не глядя сказать, что за его спиной еще не погасла россыпь ночных огней Кохимара. Роблес знал все наизусть, ведь прошло ни много ни мало тридцать лет с того дня, когда он, двенадцатилетний мальчишка, в первый раз выбирал из воды самодельный якорь, а старый Креспо с кормы следил за ним и скверно ругался.
Этим утром, как и всякий раз, когда ему виделся старик в лодке, на своем обычном месте, Роблес непременно вспомнил бы о нем, но вот ночной улов хуже нельзя — рыбы на один зуб, и все мысли только об этом. Бог с ним, с солнцем. Роблес удрученно глянул на дно лодки, где лежали eго «трофеи» — мелочье, сплошной сор. Разве скажешь, что рыбачил? Такое впору этим лодырям, которые просидят все воскресенье, в модных шляпах и цветастых рубахах, затупят, обобьют крючки о камни и тащат домой, млея от радости, какую-нибудь ерунду вроде ронко — а эту рыбу ловить и ума не надо.
Но вот леса дрогнула и пошла вниз, может, судьба смилуется и подбросит парочку черно, фунтов десять — двенадцать каждый. Где там, черно нет и в помине, а солнце, набирая высоту, окрашивает в густой синий цвет черную от ночной тьмы воду. Э-эх, сюда бы старого пройду Креспо! Он, конечно, стал бы орать — дурень, не знаешь, где рыба держится, и все такое. Только старик давно умер, пятнаддать лет, как лежит под тяжелой красно-бурой землей. Без него Роблесу куда легче, но, как ни говори, старик обучил его всему, что знал, даже секрет открыл, как снимать рыбу с чужого яруса, считай из-под носа у хозяина.
Роблес ни разу в жизни на это не шел, но суметь — сумел бы. Только зачем? Он худо-бедно рыбачит, кормится своим трудом, три заброса — и хватит, хотя оно, конечно, зависит от многого: от течения, скажем, и от глубины — на сколько забросил, на двадцать сажен или больше. В своем деле Роблес дока, каких мало. Спасибо старому Креспо за науку. Хитрец, понятно, орудовал дай бог, и все шито-крыто. Захоти Роблес — в любой час станет Котом, не хуже старика сумеет. Кот… От такой мысли он чуть не рассмеялся.
Старого Креспо прозвали Котом за приметливость, за особый нюх на чужую рыбу. Так и говорили: кошачий глаз надо, чтобы с берега усмотреть, где добрые люди ставят яруса, а потом ночью, без фонаря, в кромешной тьме добраться на своей долбушке — и весла не слышно — да стащить весь улов. Тут такое чутье нужно, какое не у всякого кота бывает. Один Креспо мог обстряпать все это, честное слово!
Темное дело, нечистое, да иной возьмет и загордится: как-никак риск большой, и если ты с удачей, значит, смельчак, молодец. Тут только начни, а уж потом пойдет-поедет.
Внезапно леска дрогнула, и Роблес весь напрягся, сжал, как мог, пальцы правой руки. Но сразу усмехнулся:
— Мелочь, верно. Хм-м…
Ветер по-прежнему дул с берега, вода была гладкая, спокойная — ни волны, ничего. Старик бы сейчас крикнул: «Чего ждешь, дурень, тащи свою лесу», — и закурил бы смятую сигару.
«Своя» леса, «своя» жестянка-черпак, «свое» грузило, «свой» руль, «свой» нож… Когда наступал черед работе, Роблес делался как бы хозяином этих вещей, а только унеси он, не дай бог, вот эту жестянку, Креспо отлупцевал бы его будь здоров.
Но, говори не говори, старик научил его всему, что умел, стало быть, поминай своего учителя добром. Да за тот первый день надо благодарить его всю жизнь. Случаем тогда Роблес, круглый сирота, набрел на дом Креспо — услышал запах рыбы и следом увидел, как она жарится. Он сглотнул слюну, и старик, глянув на него маленькими кошачьими глазками, сразу понял что к чему, но, продолжая возиться у плиты, промолчал. Потом обернулся — нос крючковатый — и спросил: