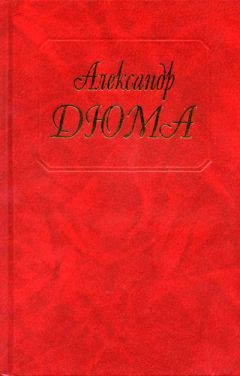Коллектив авторов - 12 историй о любви
– О, Боже мой! – воскликнула Агнеса: – как я сожалею об этих бедных кормилицах, которые состоят при воспитательном доме, там, на конце улицы, рядом с дворцом архиепископа! Каково-то им будет кормить грудью этого урода! Я бы уже предпочла дать грудь нетопырю!
– Какая же она, однако, наивная, эта бедняжка Ла-Герм! – заметила Иоанна. – Да разве ты не видишь, что этому уродцу, по крайней мере, четыре года, и что он, без сомнения, предпочтет твоей груди вертел.
Действительно, «этот уродец» не был уже новорожденным младенцем (мы сами бы очень затруднились назвать это существо иначе, как «уродцем»). Это было что-то очень угловатое, очень подвижное, засунутое в полотняный мешок, на котором был вытеснен вензель Гильома Шартье, состоявшего в то время парижским епископом, и из которого высовывалась какая-то голова. Голова эта представляла собою верх безобразия. Она состояла из целого леса рыжих волос, из одного плачущего глаза, из разинутого от громкого крика рта и из зубов, которые, казалось, так и желали укусить все, что только приблизится к ним; и это странное существо билось в своем мешке к немалому изумлению толпы, которая, постоянно возобновляясь, становилась все гуще и гуще.
Алоиза Гонделорье, женщина богатая и знатная, державшая за руку хорошенькую девочку лет шести, и у которой с головы ниспадало на спину длинное покрывало, остановилась, проходя мимо кровати, и взглянула на несчастное лежавшее на ней создание, между тем, как ее дочка, Лилия Гонделорье, разодетая вся в шелк и бархат, разбирала по складам, водя пальчиком, прибитую над кроватью надпись: «Подкидыши».
– Фи! – сказала дама, отвернувшись с отвращением, – а я-то думала, что здесь действительно выставляют только подкидышей! – И она направилась к выходной двери, бросив в поставленный перед кроватью медный газ серебряный экю, который звонко забренчал среди медных монет и вызвал немалое удивление среди окружавших кровать женщин из простонародья.
Минуту спустя тут же проходил важный и ученый Робер Мистриколь, королевский протонотарий, держа в одной руке большой служебник и ведя другою свою жену, Гильеметту Ла-Мэресс, имея, таким образом, по обеим сторонам по регулятору – духовному и светскому.
– Подкидыш! – сказал он, взглянув на кровать. – Найден, вероятно, на берегу реки Флегетона.
– У него только один глаз, – заметила жена его, – а на месте другого у него какая-то бородавка.
– Это не бородавка, – возразил Робер Мистриколь, – а яйцо, в котором кроется зародыш другого, подобного же чертенка, у которого на месте глаза будет такое же яйцо, и так далее.
– А почему вам это известно? – спросила Гильеметта Ла-Мэресс.
– Уж почему бы ни знал, а знаю, – уклончиво ответил протонотарий.
– Какую будущность вы предскажете этому ребенку, г. протонотарий? – спросила Гошера.
– Ничего хорошего, – ответил Мистриколь.
– О, Боже мой! – проговорила стоявшая тут же старуха, – да как еще вспомнишь, что в прошлом году свирепствовала чума и что, по слухам, англичане собираются высадиться в Гонфлере.
– Это, быть может, – вставила свое слово другая, – помешает двору переехать в Париж в сентябре месяце; а торговля и без того уже идет так плохо.
– По моему мнению, – воскликнула Иоанна де-ла-Шарм, – для парижских обывателей было бы лучше, если бы этого маленького колдуна положить не на кровать, а на связку дров!
– Да и поджечь связку, – прибавила какая-то старуха.
– Это было бы благоразумнее всего, – сказал Мистриколь.
Какой-то молодой патер уже в течение нескольких минут прислушивался к болтовне кумушек и к рассуждениям протонотария. Это был человек с строгим лицом, с высоким лбом, с глубоким взглядом. Он молча протискался сквозь толпу, взглянул на «маленького колдуна» и простер над ним руку: – да и была пора, ибо все богомолки уж облизывались при мысли о хорошеньком пылающем костре.
– Я беру к себе этого ребенка, – сказал он. – И с этими словами он обернул его в свою рясу и унес его. Все присутствующие смотрели ему вслед удивленными взорами. Минуту спустя он скрылся за Красными Воротами, которые в то время вели из церкви в монастырь.
Когда первое удивление миновало, Иоанна де-ла-Шарм наклонилась к уху своей соседки де-ла-Готьер и сказала:
– Ведь говорила же я вам, сестрица, что этот молодой патер, Клод Фролло – колдун.
II. Клод Фролло
Действительно, Клод Фролло не был обыкновенной личностью.
Он принадлежал к одному из тех средних семейств, которых называли в прошлом столетии мелким дворянством или разночинцами. Семейство это наследовало от братьев Паклэ поместье Тиршап, составлявшее когда-то собственность парижского епископа, и 20 домов которого составляли в XIII столетии предмет нескончаемых споров и процессов в консисторском суде. В качестве обладателя этого поместья, Клод Фролло считался одним из семи «парижских помещиков», и в таком звании он долгое время и значился в парижских городских книгах, в которых его имя было занесено между именами Франсуа Реца и Турской коллегии.
Клод Фролло еще в детстве был предназначен родителями своими для духовного звания. Поэтому его научили латинскому языку, и он с отроческих лет привык опускать глаза и говорить тихим голосам. Затем отец отдал его в закрытую коллегию Торки, в Университетском квартале, где он и вырос над латынью и над требником.
Впрочем, он и по природе был мальчиком грустным, серьезным, прилежным; ученье давалось ему легко. Он не шумел во время рекреаций, не участвовал в шалостях своих товарищей и в кутежах их, и держался в стороне от беспорядков 1463 г., которым летописцы придали громкое название: «Шестой бунт в университете». Он не любил дразнить школьников других, менее аристократических училищ и подсмеиваться над их часто, действительно( весьма смешными костюмами. Но за то он, с другой стороны, усердно посещал все уроки. Аббат Сен-Пьер-де-Валь, читавший каноническое право, всегда видел Фролло сидящим на первой скамейке, против самой кафедры, усердно записывавшим на коленях, на роговой доске, лекцию профессора и дувшим зимою в окоченевшие пальцы свои. Равным образом, первым слушателем, которого видел по понедельникам на своих лекциях Миль-д’Илье, профессор декреталий, торопящимся, запыхавшимся, протискивавшимся в дверь аудитории, неизменно был Клод Фролло. За то последний и достиг того, что уже в 16 лет мог бы помериться в богословских познаниях с любым отцом церкви, а в схоластике – с доктором Сорбонны.
Покончив с богословием, он приналег на декреталии, и последовательно проглотил, в своей научной алчности, одни декреталии за другими – и Федора, епископа Испальского, и Бушара, епископа Вормсского, и Ива, епископа Шартрского, и Грациана, пополнившего декреталии Карла Великого, и сборник Григория IX, и послание «О зеркале души» папы Гонория III. Он сумел ориентироваться и разобраться в этой путанице средневекового гражданского и канонического права, в этом периоде, начинавшемся в 618 году с епископа Федора и оканчивавшемся в 1227 году папой Григорием IX.
Переварив декреталии, он набросился на медицину и на свободные искусства. Он изучил науку трав и мазей, приобрел основательные сведения относительно лихорадок и ушибов, относительно язв и нарывов, так что Жак д’Эспар охотно выдал бы ему диплом врача, а Ришар Геллэн – диплом хирурга. Словом, он прошел все известные в ту эпоху науки; он основательно знал латинский, греческий и еврейский языки, составлявшие в ту эпоху квинтэссенцию научной премудрости. У него проявилась настоящая страсть приобретать и накапливать научные богатства. В 18 лет он прошел уже все четыре факультета. Молодой человек знал только одну цель в жизни: учиться.
Как раз в это время необычайно жаркое лето 1466 года вызвало великую моровую язву, от которой умерло более 40,000 человек в одном парижском графстве, и в том числе, как говорит летописец Жан-де-Труа, «королевский астролог Арнуль, человек весьма мудрый, хороший и приятный. В городе распространился слух, что особенно сильные опустошения болезнь произвела в улице Тиршап, т. е. именно в той улице, в которой жили, в небольшом своем поместье, родители Клода. Молодой школьник в тревоге поспешил в родительский дом, и, действительно, войдя в него, увидел отца и мать, одновременно умерших накануне; от всего семейства Клода остался только маленький брат, находившийся еще в пеленках, который, оставшись один во всем доме, кричал благим матом в своей люльке. Молодой человек взял ребенка на руки и в задумчивости вышел из дому. До сих пор он знал только науку, теперь ему пришлось познакомиться с жизнью.
Случай этот составил кризис в существовании Клода. Оказавшись в 19 лет не только сиротою, но и старшим в семействе, главою его, он разом был перенесен из школьной мечтательности к будничной прозе. Почувствовав вначале только сострадание к младенцу-брату, он не замедлил полюбить его со всей страстностью и преданностью, на которые только и мог быть способен человек, не любивший до сих пор ничего, кроме науки и книг.