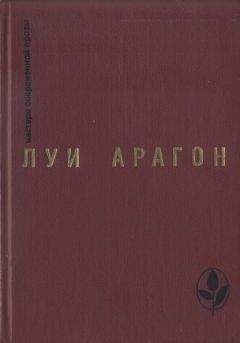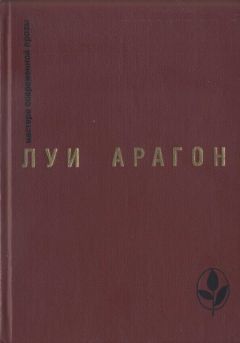Луи Арагон - Страстная неделя
Впрочем, сменные шестерки были готовы, и их уже перепрягали.
Мезон успел только сказать:
- Гвардейцы князя Ваграмского не получили никаких приказаний.
Его величество недовольно кашлянул, а князь Пуа, высунувшись из дверцы, показал пальцем на кареты, следовавшие цугом за королевским экипажем.
- Ну вот и обратитесь к Бертье, генерал! Он где-то там.
Князь Пуа никогда не говорил ни "князь Ваграмский", ни "герцог Невшательский". Он никак не мог привыкнуть к титулам, дарованным Революцией, и звал Бертье просто Бертье, а герцога Фельтрского - просто Кларком.
Пока форейторы и кучера суетились вокруг королевской кареты, Теодор Жерико потихоньку отъехал в сторону и поискал глазами, где бы напоить коня. Вовсе не потому необходимо было дать напиться Трику, что они проехали два с четвертью лье, - просто сегодняшний день выдался трудный и для людей, и для коней. Теодор заметил наконец колодец и соскочил на землю.
Но приблизиться к колодцу оказалось не так-то просто: кучера наполняли водой ведра, чтобы напоить лошадей, которых здесь не перепрягали. Кто-то из королевского эскорта указал ему дорогу к водопою: если поторопиться, то еще можно поспеть вовремя.
Десяток мушкетеров, ведя своих лошадей под уздцы, пытались пробраться мимо кортежа вниз, по улице Компуаз. Фонари бросали на всю эту картину фантастические пятна света, дождь вдруг ненадолго утих, на небе среди тучек даже выглянул месяц-мертвенно-бледный и какой-то одутловатый: казалось, он лениво причесывается спросонья.
Бывают решения, которые принимаешь, и бывают такие, которые выполняешь... Когда Теодор расстался с юным Тьерри, он твердо решил: пусть королевская фамилия уезжает себе подобру-поздорову, он же, воспользовавшись ночным мраком, доберется до Новых Афин, а там и до своей постели в мезонине.
По мотивам, которые руководили им в 1810 году и вновь восторжествовали, да и по некоторым другим. Но. возможно, и потому, даже наверняка потому, что он вдруг снова стал с такой силой думать о живописи. Перед его внутренним оком вставали картины, которые он непременно напишет, он видел их во всех подробностях-мучительно точно. Им внезапно овладело желание испробовать все сызнова, отнюдь не следуя советам, на которые не скупились доброхоты, не принимая на веру замечаний критиков, но, напротив, еще более решительно утверждая и отстаивая именно то, в чем его упрекали. Как-то ему рассказали одну историю: женщина, переодетая в мужской костюм, ловила путешественников во дворе почтовой станции, отводила их в гостиницу, а там подносила им стакан вина с подмешанным в него снотворным порошком, после чего убивала их ударом молотка и грабила. Он представлял себе это как некий современный вариант истории библейской Юдифи... его Олоферном будет отпрыск патриархальной семьи, прибывший в столицу из нормандской глуши; таких вот деревенских выкормышей он достаточно навидался в тех краях, когда жил у своего дяди-цареубийцы. Пусть он будет еще совсем молодым, правда, слегка раздобревшим на деревенских хлебах, но зато писаный красавец, тогда преступление будет еще более жестоким: ведь, если говорить по правде, Олоферн-просто старый бородач, который служит всеобщим посмешищем. Обстановка гостиничного номера позволит испробовать один из давно задуманных эффектов освещения: преступница в своей завлекающей прелести будет одновременно как бы игрою теней и вполне реальной женщиной, женщиной нашего времени, возможно даже креолкой, и взгляд у нее будет как у Каролины, когда она заметила его красный мундир... Композицию он построит на двух больших светлых пятнах, фоном для которых послужит вульгарность обстановки, ее грязный колорит. И, быть может, еще белые простыни, которые откидывает, из которых пытается выбраться полуобнаженная жертва, уже лишившаяся сил. Самые обыкновенные простыни, какие вам дают во второразрядных гостиницах, - из грубого, жесткого полотна, с еще не разошедшимися после глажения складочками. Мужчина-рыжий, ноги у него, как у кавалериста, с желваками мышц. Он должен быть вроде как помешанный от обманутого желания.
Вот какого рода мысли преследовали Теодора, и вдруг с той же легкостью в его воображении возникала сцена драки кучеров в освещенной фонарями конюшне, среди поднявшихся на дыбы лошадей, - совсем как тогда, когда он зашел в Тюильрийскую конюшню. Потом постепенно он вновь как бы прозрел, оглянулся вокруг-видения распадались. Он услышал голоса, разговоры, ощутил присутствие народа вперемежку с солдатами, что-то кричавшими, кого-то проклинавшими; увидел, как национальный гвардеец швырнул на землю ружье, выкрикивая что-то под рукоплескания прохожих, которые бросились обнимать его, понесли на руках. Увидел ярким пятном выделяющиеся на сюртуках и блузах трехцветные кокарды или букетики фиалок, прикрывающие белые кокарды, а ведь рядом, в двух шагах, был Павильон Флоры, стояли войска, охранявшие короля. Те. что заполнили площадь Карусель, казалось, были охвачены непонятным волнением, которое, но всей видимости, даже не было вызвано речью какого-то штафирки, взобравшегося на решетку Тюильрийского сада и провозглашавшего что-то, чего Жерико не мог отсюда слышать. Пожалуй, впервые дождь не обращал людей в бегство: толпа росла с минуты на минуту, весь полуразрушенный квартал со своими строениями, скучившимися в глубине площади, казалось, подмигивал тысячью огоньков-во всех окнах и дверях зажглись свечи, - и всё вместе создавало впечатление тревожной суетни: грозные силуэты мужчин, подвыпившие девицы, беспрерывное снование каких-то подозрительных или излишне болтливых личностей. Целый отряд солдат повернул ружья дулом вниз, и, когда мятежники ггодошли к кабачку на улице Сен-Никола. их встретили громом аплодисментов. "Какая разница между ними и мной?" - с чувством отвращения подумал Теодор. Ведь он-то пришел сюда за Триком. оставленным у сторожевой будки. И он зашагал к казарме...
Он принуждал себя думать только о живописи-и ни о чем другом. Об игре оттенков. О том, что человеческое тело, написанное даже в желтоватых тонах, вдруг приобретает живое тепло. О том, что умелый выбор сюжета позволяет, например, изображать болезнь, смерть, раскрывая анатомию, другими словами, позволяет достичь той правды, какая недоступна при изображении здорового человека, - и извиняет художника, отошедшего от традиционной красоты греков, которой никогда не коснется гниение, не поразит болезнь. Между небесами и человеком бывают такие минуты, когда они сливаются воедино всей яростью гроз и чувств, когда молния распарывает гладь моря, как нож, как скальпель вспарывает живую плоть...
В Сен-Дени оказалось еще легче, чем тогда, на площади Карусель, отдаться игре теней и силуэтов: здесь не требовалось даже воображения-нужно было только глядеть и видеть. Путь к колодцу напоминал какое-то мрачное празднество, без конца малеванный и перемалеванный холст; толпа, факелы, жалкие домишки с узкими фасадами, вдруг отступающий мрак. гривиальность лиц и одежды-все это до глубины сердца взволновало Теодора. Если бы ему не нужно было вести Трика на водопой, он остановился бы здесь и глядел, без конца глядел бы на этого оборванца, стоявшего у тумбы на углу улицы Компуаз, - он казался центром некой огромной композиции, и лицо его словно оцепенело от всего происходившего в эту ночь, в ту ночь, которую как бы похитила у него толпа бегущих, сталкивающихся друг с другом людей, непонятная толпа. А у ног оборванца тихонько скулила и тряслась всем телом маленькая белая собачонка с желтыми подпалинами...
Итак, он добрался тогда до сторожевой будки у входа в Лувр... Сейчас, в Сен-Дени, он вспоминал об этом так, словно прошло с тех пор не четыре часа, а долгие годы, словно то было в раннем детстве. Не доходя до Лувра, он наткнулся на двух гвардейцев конвоя, которых случайно видел несколько дней назад во время драки неподалеку от Мадлен. Шли они со стороны набережной. Оружия при них не было, даже сабли или шпаги не было, но Теодор не сразу это понял. Шли они неуверенно, тревожной походкой, куда-то торопились, и при виде мушкетерской формы оба шарахнулись в сторону. Сомнений не оставалось: они пытались дать тягу. Теодор заговорил с ними таким тоном, будто ничего подозрительного не заметил, спросил, куда они идут. Гвардейцы были до смешного непохожи друг на друга: один - высокий и тощий, другой - низенький, и шагал он тем тяжелым шагом, который выдает жителя деревни. Оба узнали Жерико и не могли выдеррдсать притворной игры. Они умоляли отпустить их, и оба говорили глухими, придушенными голосами, и у обоих в глазах стояли слезы. Как, и это королевские гвардейцы! Дезертиры! Они подхватили мушкетера под руки, заклинали его войти в их положение. Говорили они оба разом, перебивая друг друга. И приводили самые жалкие доводы. Оба они были дворянского рода из Лангедока: один-уроженец Тулузы, другой жил в окрестностях Роде. Они никак не могли решиться последовать за королем, все бросить, быть может, даже покинуть Францию, отправиться за рубеж. Их семьи никогда не эмигрировали, и один, уехав, оставит без средств мать и сестру, а другой-он обручен, у него невеста... Горько кляня себя за пустое тщеславие-кой черт дернул их записываться в королевскую гвардию! - они кричали, что Париж-это уже почти изгнание... а теперь куда еще их потащат? Ведь в тот раз это длилось двадцать лет без малого! А ну-ка, посчитайте, сколько им будет лет, когда они вернутся на родину, - вся жизнь пройдет. И один из них говорил о своем родном крае, как говорят о женщине: у них там такое солнце, что он просто не в состоянии решиться на отъезд в Англию. Жерико их отпустил. Они рассчитывали временно укрыться у одной дамы полусвета, которая сдавала свои дом по;; игорный клуб.