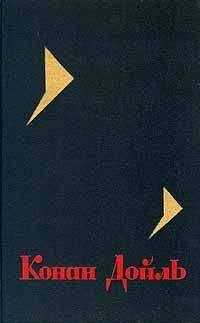Геннадий Гор - Факультет чудаков
Так был разоблачен шаман. Была организована первая сельскохозяйственная артель тунгусов. Целый край менял свое занятие. Тунгусы учили оленей труду, учась сами, казалось, меняла занятие сама тайга, менялась сама тайга, и солнце новой весны поднималось над гольцами, весны коллективного земледелия.
Так, полезный, появился в тайге трактор. Стадо оленей окружило его в тайге, враждебное стадо удивленных оленей обнюхивало его и лизало железо, как оно лижет соль на солончаках.
Тунгусы бросились искать Шелоткана. Но его не было ни в школе, ни в поле, ни дома.
Только через несколько дней они нашли его в лесу, с простреленной грудью. Его принесли в школу и положили на стол.
Над ним висела доска. И тут все увидели давно забытый рисунок: три дерева на берегу реки и человека, прицеливающегося из ружья в белку.
И все догадались, кто убил Шелоткана.
Окно
Окно — должна была называться картина — окно.
Название ее — окно — возникло раньше, чем сам замысел.
Выражением сущности того дома, который собирался изобразить художник Молодцов, могло быть только окно.
Окно — это квадратное, открытое с обеих сторон, слово, похожее на окно.
Окно — это четырехугольная дыра, вырубленная в стене для того, чтобы видеть мир.
Так думал художник Молодцов, когда подходил к окну своей комнаты. Затем он отдернул занавеску и посмотрел.
За окном были видны: беленькая, похожая на свой загнутый хвост, собачка и фонарный столб, стоявший чуть-чуть вкось.
Подняв левую ножку, собачка мочилась на фонарный столб.
Это и был тот мир, который художник увидел в окно. Он рассмеялся и вышел на улицу. Зеленоватые, полужелтые, полурозовые и серые, точно тронутые кистью Сезанна, похожие один на другой квадраты домов тянулись от горизонта до горизонта. И между домами шла жизнь. Она ехала в коляске ребенком с выпуклыми, повисшими в воздухе, согнутыми в локтях ручонками и белым смеющимся лицом. Она шла на тысячах своих ног, в виде работниц, повязанных красными и синими платочками, отчего лица их казались более круглыми и более веселыми, в виде мужчин разных возрастов и профессий, но объединенных одним временем и одним пространством, и вот, казалось, остановилась на углу длинным, расширявшимся книзу, похожим на колокол, силуэтом попа. И снова сдвинулась с места. Художник Молодцов шел вместе с улицей. Он чувствовал себя ее частью. Так он шел до тех пор, пока не увидел дом, достойный его внимания. Это был дом, стоявший несколько в стороне от других домов, высокий и новый. Возле дома был садик. Но художник Молодцов не обратил на него никакого внимания. Его интересовал только дом. Похожий на куб, дом был идеален. Четыре вертикальных прямых завершались кривой, которая была крышей. Никаких украшений и никаких деталей, ничего, кроме окон; и окна, собственно, не были деталями. Они составляли одно целое с домом. Они были громадны. Казалось, не было окон и не было дома, было одно сплошное окно.
«Вот дом, сущность которого окно, — подумал художник Молодцов, — весь мир виден из него, как на столе».
Он остановился напротив дома. Их не разделяло ничего, кроме воздуха. Дом вошел в глаза художника Молодцова и там остановился, перевернутый и уменьшенный. Художник мог вернуться к себе в мастерскую и занести дом на полотно, ничего не изменив. И тут он посмотрел на дом еще раз и увидел маленькую девочку в голубом платье. Рядом с домом она казалась еще меньше, а дом рядом с ней казался еще величественнее. Несомненно, она была обитательницей этого дома. И, смотря на нее, художник вспомнил, что в доме жили люди, о которых он забыл. И сразу дом изменился.
Он подошел к дому вплотную, казалось, ничего больше не отделяло их, кроме бетона и стекла. Но в то же время их разделяло нечто большее, чем стекло и бетон. Художник перегнул голову и посмотрел вверх. Дом покосился, этажи стремительно убегали. Через стекло он увидел людей. В одном окне стоял человек с головой, похожей на шар. В другом были видны толстые, широко расставленные ноги и желтая юбка женщины, мывшей стекла. В третьем — ночной горшок, белый и выпуклый. Вот все, что он увидел. Он мог бы написать все, что он увидел, и пейзаж был бы готов. В конце концов он мог кое-что добавить. Здесь — целующуюся парочку. Там — бреющегося юношу, рассматривающего в зеркале, вобрав губы, порезанный уголок, с косой миной на узком лице. Здесь — низенького старичка и высокую старуху, с торжествующим видом снимающих со стены икону, чтобы повесить на ее место картину, изображавшую эпизод революции. И даже какой именно эпизод. Там — спекулянта, пересчитывающего деньги. Здесь — двух рабочих, играющих в шахматы, облокотившись на стол. И, наконец, детский шар, розовый или голубой, собственно только для того, чтобы показать его блестящую фактуру и легкость. И вот дом, построенный действительностью и его воображением, был готов. Оставалось вернуться домой и взять кисть.
Художник отошел, чтобы еще раз взглянуть на дом со стороны. Дом был как дом. Он был неподвижен.
Но это была его видимость. Внутри дома, по всей вероятности, была своя жизнь, которой художник не видел.
«Какой унылый пейзаж» — подумал он. И снова увидел девочку. Можно было изобразить и девочку. Но дом от этого показался бы еще унылее, девочка еще беззащитнее. Он подошел ближе и увидел: девочка была весела. Она забавлялась, то появляясь, то исчезая в вертящихся дверях дома. Тут художник увидел дверь. Казалось, он ее видел впервые. Затем он снова отошел. Дом был как дом. Дом был неподвижен. Дом был сам по себе. Улица сама по себе. Художник сам по себе. Ничто, казалось, не соединяло их вместе.
«И все же это не так» — подумал художник. И тогда он догадался, что нужно не только увидеть дом, но его понять, а для того, чтобы его понять, нужно его узнать.
Он взял девочку за руку и раскрыл дверь, чтобы войти в дом. Замысел изменялся. Он изобразит дом в движении, его внутренность и его внешность.
— Дверь, — сказал он девочке, — очень некрасивое название. Но она выражает сущность всякого дома. Дверь соединяет дом с действительностью, действительность со мной, меня с домом. Дверь, а не окно.
И, держа за руку девочку, он стал подниматься по лестнице дома, чтобы написать картину, которая будет называться не «окно», а «дверь».
Стакан
Жизнь художника Широкосмыслова была похожа на стакан. Всю свою жизнь он писал только один стакан.
Иван Иванович, он вставал в четыре часа утра для того, чтобы пить чай. И брал стакан.
— Где мой стакан? — говорил он, когда брал стакан.
А стакан уже был в его руке. Сначала в руке, потом на столе, потом на губах, потом на зубах, потом в бороде, а затем снова на столе, кругл и прям, законченный, как стакан, стоял стакан.
Движение стакана по комнате означало, что художник Широкосмыслов двигался, а стояние на одном месте означало, что они стояли на одном месте.
Художник и стакан.
Так стояли они вместе, стакан стоял недвижим, а Иван Иванович, художник Широкосмыслов, с рукой, бегающей по холсту вместе с кистью, где постепенно появлялось изображение стакана.
И вскоре вместо одного стакана в комнате их было два. Один был прям, и другой был прям, один был прозрачен, и другой был прозрачен, один был пуст, и другой был пуст, стакан против стакана.
Начинаясь от усов и заканчиваясь сапогами, художник Широкосмыслов был весь не столько высок, сколько упрям. И всей своей фигурой и головой стремился к чистоте в комнате, в бороде и в искусстве. И, так как стакан был абсолютно чист, всей своей фигурой и головой вместе с носом, глазами и бородой, он стремился к стакану.
Его комната была похожа на стакан. Чистые линии и стены, похожие на стекло, где жили он и стакан. Кроме него и стакана, в комнате не было ни других людей, ни других вещей, ни других стаканов.
Ни пули революции и ни снаряды гражданской войны не задели ни его стакана, ни его лысую голову, похожую на стакан.
А когда Ивану Ивановичу нужны были дрова или когда у него выходило все варенье, он брал очередное изображение стакана и уносил его на базар, где бабы давали хорошие деньги за очередное изображение стакана.
А когда Ивану Ивановичу нужна была слава, художник Широкосмыслов, он брал очередное изображение стакана и уносил его на выставку картин.
Там охотно брали его стакан, потому что стакан — натюрморт, а художник Широкосмыслов считался большим мастером натюрморта. И вот среди революционных картин, среди вздыбленных машин и вздутых, как весенняя вода, мускулов, среди знамен, движения и людей появлялось изображение стакана. Законченное среди незаконченного, неизменное среди изменяющегося, чистое и пребывающее в себе среди смешанного и переходящего одно в другое, уравновешенное среди неуравновешенного, оно выделялось, как выделяется мертвое среди живого. Оно собирало вокруг себя взгляды всех тех, которым была чужда работа, беспокойная, как война, и которые всю свою жизнь стремились к неподвижной жизни, подобной жизни диванов, стаканов и огурцов, к дореволюционной жизни провинциальных обывателей, похожей на жизнь вещей домашнего обихода.