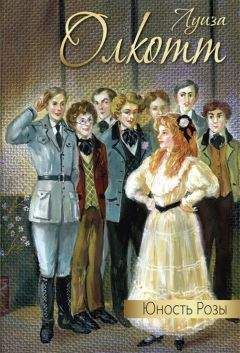Анри Барбюс - Ясность
Тебя реквизируют. Тобой овладевают угрозами, мерами, равносильными аресту, от которых ничто не может уберечь бедняка. Тебя заключают в казармы. Тебя раздевают донага и наново облекают в мундир, который тебя обезличивает; тебе на шею вешают номер. Мундир въедается тебе в шкуру; муштра тебя обтесывает и откровенно перекраивает. Вокруг тебя вырастают, тебя оцепляют чужаки, одетые блистательно. Ты узнаёшь их: это не чужаки. Значит, это карнавал, но карнавал жестокий и грозный: это новые хозяева, и символ их неограниченной власти - золотые галуны на рукаве и кепи. Те, что рядом с тобой, сами лишь слуги других, облеченных высшей властью, - она запечатлена на их одеждах. Изо дня в день ты ведешь убогое существование, в угнетении и унижении, недоедая, недосыпая, и все твое тело, как бичами, исхлестано окриками твоих сторожей. Каждую минуту насильственно низвергают тебя в твою ограниченность, за малейшую попытку протеста тебя наказывают или убивают, по приказанию твоих хозяев. Тебе запрещено говорить, чтобы ты не сблизился с твоим братом, стоящим рядом с тобою. Вокруг тебя царит железное молчание. Твоя мысль - одна глубокая боль, дисциплина необходима для того, чтобы перековать толпу в армию, и механизированный порядок, невзирая на смутное родство, возникающее порой между тобою и твоим ближайшим начальником, тебя парализует, чтобы твое тело лучше двигалось в такт шеренге и полку, куда, уничтожив все, что ты есть, ты входишь уже подобием мертвеца.
- Они нас собирают, но они нас разъединяют! - кричит голос из прошлого.
Если некоторые и проскальзывают сквозь ячеи невода, значит, эти трусы все же люди сильные. Они редки, невзирая на очевидность, как редки сильные. Ты, единичный человек, обыденный человек, смиренная миллиардная часть человечества, ты не бежишь ни от чего, и ты идешь до конца событий или до собственного конца.
Ты будешь раздавлен. Или ты будешь уничтожен на бойне подобными себе, потому что война - это вы сами, или ты вернешься домой калекой, страшным незнакомцем, узнать которого можно только по обрывку лица, или ты вернешься в свой уголок земного шара расслабленным или больным, сохранив лишь свою жалкую жизнь, без сил, без радости, выбитый из колеи долгим отсутствием, и ничто никогда не вернет тебе убитого понапрасну времени. Даже избранником чудесной удачи, даже уцелев при победе, ты будешь побежден. Когда ты снова впряжешься в ненасытную машину рабочих часов, в кругу своих, из которых торгаши, в одержимости наживы, успели высосать последние соки, работа станет тяжелее прежнего, потому что ты будешь расплачиваться за все неисчислимые последствия войны. Ты, населявший тюрьмы городов или овины, спеши населить неподвижность полей битв, более обширных, чем площади столиц, и если ты останешься в живых - плати! Оплачивай славу - не твою или разрушения, которые твоими руками произвели другие.
Вдруг - совсем близко от меня, у моего изголовья, как будто я лежу в комнате на кровати и внезапно проснулся, - из-под земли вырастает нескладная фигура. Даже в темноте видно, как она обезображена. На уровне лица тускло светится какое-то странное пятно; по спотыкающимся шагам, приглушенным черной землей, угадываешь, что обувь пуста. Он не может говорить, но протягивает тощую руку в обвисших мокрых лохмотьях, и этот обрубок руки, терзая мысль, как фальшивый аккорд, указывает на то место, где было сердце. Я вижу это сердце, скрытое в темной плоти, в черной крови живых: лишь пролитая кровь - красная. Я вижу проникновением, сердцем. Заговори он, я услышал бы те слова, которые - еще посейчас слышу - падали капля за каплей: "Ничего не поделаешь. Ничего". Я пытаюсь пошевелиться, отодвинуться. Но не могу: я скован, как в кошмаре. Если бы он не исчез сам по себе, я остался бы здесь навсегда, ослепленный его тенью. Он ничего не сказал, этот человек. Он показал себя, как вещь, он и был вещью. Он ушел. Быть может, он уничтожился; быть может, он - ушел в смерть, которая для него не более загадочна, чем жизнь, из которой он вышел, - и я снова проваливаюсь в самого себя.
Он снова вернулся, чтобы показать мне свое лицо. Вокруг его головы теперь повязка, я узнаю этот мерзостный венец. Я снова переживаю те минуты, когда он был тесно прижат ко мне, когда я сдавил его, подставил под снаряд, когда я почувствовал под руками хруст его костей у самого моего сердца. Это он!.. Это я!.. Он не подает голоса из тех вечных бездн, где он был мне братом по немоте и неведению. Крик раскаяния, раздиравший мне горло, рвется из меня в поисках кого-то другого.
Кого?
Судьба, которая моими руками его убила, не в образе ли она человеческом?
- Короли! - говорит Термит.
- Начальство, - говорит человек, попавший в ловушку, наголо обритый германский пленный с шестиугольным лицом каторжника, зеленоватый с головы до ног.
Короли, величества, сверхчеловеки, осиянные фантастическими именами и непогрешимые, разве их всех не отменили давно? Неизвестно.
Те, которые правят, невидимы. Видно только то, чего они хотят, и только то, что они делают с другими.
Почему же они вечно властвуют? Неизвестно. Массы не отдавались им во власть, они не знают их; они были ими узурпированы, и они в их руках. Власть их сверхъестественна. Она существует потому, что существовала. Ее объяснение, ее формула: "Так надо".
Как они овладевают руками, так овладевают и умами и насаждают веру.
- Они говорят тебе, - кричит тот, кого ни один из униженных солдат не хотел слушать, - они говорят: вот что должно запасть тебе на ум и на сердце.
Неумолимая религия их обрушилась на всех нас, и она поддерживает то, что существует, она поддерживает то, что есть.
Я слышу вдруг возле себя предсмертное бормотание, как будто я попал в шеренгу казнимых; и я снова вижу того, кто, как подстреленный ястреб, бился на земле, взбухшей от мертвецов. И слова его входят мне в душу крепче, чем раньше, когда исходили от живого, и ранят ее, как столкновение тьмы и света:
- Пусть люди не пробуждаются!
- Вера по приказу, как и все остальное, - говорит унтер-офицер Маркасен; на нем красные штаны, и он мечется вдоль шеренги, подобный жрецу кровавого бога войны.
Он был прав. Он поймал цепь, когда бросал этот крик истины против истины. Каждый человек - некая значимая величина, но невежество изолирует, покорность разъединяет. Каждый бедняк несет в себе века заброшенности и рабства. Он беззащитная добыча ненависти и ослепления.
Человек из народа, которого я ищу, барахтаясь в путанице, как в грязи, рабочий, преодолевающий непосильную работу и никогда от нее не освобождающийся, современный раб, я вижу его, как будто он стоит передо мною. Он выходит из своей конуры в глубине двора. На нем четырехугольная шапочка. Серебристая осыпь старости запуталась в его отросшей бороде. Он ворчит и курит свою закопченную, посапывающую трубку. Он качает головой и говорит с добродушной и важной улыбкой:
- Война всегда была, значит, она всегда будет.
И люди вокруг него качают головой и думают то же самое в жалком, одиноком колодце своей души. Они под гипнозом убеждения, вбитого им в голову, будто положение вещей никогда уже не может измениться. Они, как придорожные столбы и камни мостовой, различны, но сцементированы: они думают, что жизнь вселенной - нечто вроде огромного гранитного сооружения, и они, во мраке, пассивно повинуются каждому, кто повелевает, и не смотрят в будущее, хотя у них есть дети. И я вспоминаю, как легко было отдаваться душой и телом полной покорности судьбе. А ведь есть еще губительный алкоголь и дурманящее вино.
Невидимы короли, видимо лишь отражение их на толпе.
Ослепление, ослепление, - я в его власти. Я размечтался, ослепленный.
Губы мои благоговейно повторяют отрывок из книги, которую читал один юноша, а я, еще ребенок, слушал его, полусонный, облокотившись на стол в кухне.
"Роланд не умер. Великолепный предок, воин из воинов, на протяжении веков скачет он верхом по горам и холмам Франции Каролингов и Капетов. Как символ победы и славы, он, в своем пышном шлеме и с мечом, возникает перед населением в годы великих народных бедствий. Он, как воинствующий архангел, появляется и застывает на горизонте, полыхающем пожарами, или на черном пепелище войны или чумы, согбенный, над крылатой гривой своего коня, призрачный и покачивающийся, словно земля пьяна. Его видят всюду, и всюду он воскрешает былые идеалы и былую доблесть. Видят его в Австрии, во времена нескончаемых распрей между папой и императором, и при загадочных волнениях скифов и арабов, и цветных племен, цивилизации которых подымаются и падают, как волны, вокруг Средиземного моря. Великий Роланд не умер, не умрет никогда".
Юноша, прочитав эти строки легенды, открыл мне их смысл и посмотрел на меня.
Я вновь вижу его так ясно, как на портрете, таким, каким он был в тот далекий-далекий вечер. Это мой отец. И я вспоминаю - с того дня, погребенного среди многих дней, я почувствовал красоту народных легенд, потому что ее мне открыл мой отец.