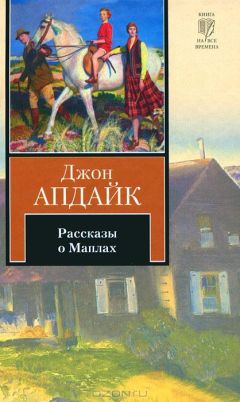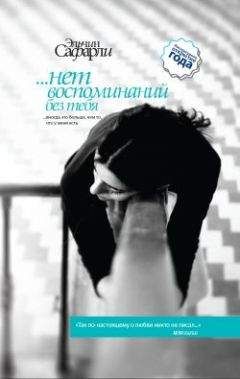Джон Апдайк - Россказни Роджера
Над строениями «Гроува», над бедными окрестными домами возвышались здания естественнонаучных и технических факультетов, и среди них новое девятиэтажное чудовище из бетона, прозванное Кубом. Неисповедимыми путями городской географии эти многоглазые великаны подобрались к человеческому жилью.
В небольшом боксе поодаль горела голая электрическая лампочка. Под каким-то устройством с огромными кожаными ремнями поблескивала циркулярная пила; зубья на ней располагались равномерно, с точностью швейцарских часов. Густеющий воздух разносил аромат свежих опилок. Длинные тени переносимых бревен и досок напоминали о том, как прямо, гордо падают наземь деревья. Не бойся. Меня словно обнимало благоуханное блаженство, и тем не менее, когда приблизился кто-то из сотрудников и спросил, не может ли быть мне полезным, я, как воришка, застигнутый на месте преступления, поспешил укрыться в машине.
Часть III
1
Quem enit naturae usum, quem mundi fructum, quem elementorum saporem non per carnem anima depascitur? Какая часть природы, какая радость жизни, какой вкус какого вещества не поглощается душой per carnem — через плоть? Тертуллиан написал эти слова примерно в 208 году в работе «О воскрешении плоти», уже после того, как он отошел от ортодоксальности и принял монтанизм. При всем старании я не обнаружил ничего неортодоксального в этом пылком заявлении; напротив, воскрешение плоти — это важнейшая и выразительнейшая христианская доктрина, хотя в нынешнюю пору заката веры поверить в нее всего труднее.
И все же с каким красноречием выспрашивает Тертуллиан неопровержимые аргументы в пользу того, что душа не может обойтись без тела. «Quidni?» — спрашивает он. Как, как может быть иначе? Per quam omni instrumento sensuum fulciatur, visu, auditu, gustu, odoratu, contactu? С ее помощью действует вся система чувств — зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Затем следует изящный, a la Соссюр, довод, связывающий способность к действию, обозначенную им как divina potestas, с речью, которая в свою очередь является функцией физического органа. Per quam divina potestate respersa est, nihil non sermone perficiens, vel tacite praemisso? Et sermo enim de organo carnis est. Выражение vel tacite praemisso (буквально: «даже если только в молчании высказано», иначе говоря — то, на что указывает существование речи, слов) казалось особенно тонким штрихом, и я подумал, что perficiens можно прочитать как «превращение в понятие», так что божественная тайна Логоса спускается по Платоновым ступеням-степеням идеального в реальность через неизбежную зависимость от той отвратительной мускульной системы, которая находится между слюнными железами нашей ротовой полости и гниющими зубами, — неуклюжий, неутолимый, не знающий устали язык. Действительно de organo carnis. Искусства и науки тоже покоятся на этом движущемся скользком основании: Artes per carnem, studia, ingenia per carnem, opera, negotia, officia per carnem, atque adeo totum vivere animae carnis est, ut non vivere animae nil aliud sit quam a carne divertere. Неужели он доходит до утверждения, будто жизнь души целиком зависит от тела и попытка отделиться от тела означает не что иное, как смерть? О неистовый Тертуллиан! Ты хотел лишить нас даже проблеска надежды на духа-арфиста в нашем составе, на пункт о небесном спасении в обременительном договоре с глазными яблоками и растительностью в ноздрях, с ушными раковинами и клетками серого вещества в мозгу, договоре, который мы никогда не подписывали, но который парафировал без консультаций с нами вездесущий наш посланник по имени Декси Н. Амино. Мы хотим расторгнуть договор, помогите! Но ослепленный своими идеями, наш карфагенский стряпчий гонит во весь опор дальше, к форменному чуду: Porro si universa per carnem subiacent animae, carni quoque subiacent. «Далее, если все вещи подчинены душе через плоть, значит, они также подчинены плоти». Он еще прочнее сращивает нашу душу с телом, обещая расторгнуть договор. Мы начинаем сгорать от нетерпения. Per quod utaris, cum eo utaris necesse est. О, эта компактность «золотой» латыни, литые строки и неразрывная связь слов! Перевод неизбежно ослабит эти связи. И все же: «Что вы используете, тем и должны пользоваться»: здесь utor, как и fruor несколькими строками выше, имеет значение «наслаждаться», следовательно, наше бренное тело, используемое для нашего наслаждения (он подразумевает: для наслаждения души, ибо мы все-таки живое существо, а не просто мясо), по необходимости тоже испытывает наслаждение. Дорогая Плоть, приходи, повеселимся, — твоя подружка Душа. Ita caro, dum ministra et famula animae deputatur, consors et cohaeres invenitur. Таким образом, тело, исполнявшее до сих пор обязанности прислужника души, оказывается ее супругом и сонаследником. Si temporalium, cur non et aetetnorum? Если временно, то почему не всегда, не вечно? В самом деле, почему? Мысль о том, что наши болезненные вонючие тела на все времена обречены находиться в толчее какой-нибудь небесной раздевалки, удручала. И все же туманная идея всеобщего спасения придавала бодрости. Что ни говори, у старого фанатика не отнять ни умения зреть в корень, ни рвения. И он постоянно имел в виду своего оппонента. Маркиона, который считал, что Христос на земле — это чистейшая выдумка и ни один Бог, достойный поклонения, не стал бы марать руки ради этого бродяги и бездельника, мешка с дерьмом и спермой.
Нет, все-таки смеху подобно, что Тертуллиан благословил нашу плоть на вечное существование, и здесь я смыкаюсь с еретиками и язычниками (ethnici), чьи возражения он предвидел заранее. An aliud prius vel magis audias tarn ab hacretico quam ab ethnico? Et non protinus et non ubique convicium carnis, in originem, in materiam, in casum, in omnet exitum eius, immundae a primordio ex faecibus terrae, immundioris deinceps ex seminis sui limo, frivolae, infirmae, criminosae, onerosae, molestae, et post totum ignobilitatis elogium caducae in originem terram et cadaveris nomen, et de isto quoque nomine periturae in nullum inde iam nomen, in omnis iam vocabuli mortem? To есть язычники, но отнюдь не христиане (как считают, начиная с Нерона, самодовольные гедонисты и пустобрехи) ополчаются на плоть, на ее происхождение, сущность, обусловленность, кончину, обвиняют в том, что она нечиста, ибо ее начало — именно в нечистотах земли, а впоследствии она сделалась еще грязнее, ибо осеменилась; плоть ничтожна, ибо невесома, неустойчива, виновна (не в преступных деяниях, но в том, что дала себя оклеветать), вообще приносит массу хлопот и неприятностей. Пройдя все ступени низости, плоть (как полагают ethnici) превра-, возвращается в прах, откуда вышла, получает название трупа и в конце концов истощается до небытия и утраты имени. Смерть стирает понятия. Как это ужасно и верно! Тертуллиан, подобно Барту, мог отстаивать одну-единственную позицию: плоть — это человек — «Все в нем плоть и по определению обречено на погибель», подводит итог Барт в своей «Die christliche Lehre nach dem Heidelberger Katechismus». Для не знакомых с немецким перевожу: «Христианский подход к Гейдельбергскому катехизису».
Устав переводить, я прикрыл глаза. Мне представился набухший Дейлов пенис с большими синими венами и тонкими жилками темно-красного цвета, розово-лиловая головка, похожая на шляпку гриба, насаженная Создателем на такой же толстый корень, два полукруглых синеватых выступа-венчика, corona glandis, которые у язычников были прикрыты крайней плотью, и капелька прозрачнейшего нектара в раскрытой щелочке на бархатном кончике. К щелочке тянутся жаждущие губы и слизывают нектар. Сосредоточенное лицо Эстер — крупным планом, как в кино. Она берет член в рот, дальше и глубже, засасывает губчатые тела, corpas spongiosum, добирается до кожно-мышечной оболочки мошонки, разделенной на две половины, corpora cavernosa. Эстер работает ртом, per carnis уверенно и нежно, стараясь ничего не повредить зубами. В тусклом свете мансарды Дейлов член поблескивает от ее слюны. Да, они, конечно, уединились в комнатке на третьем этаже, в ее мастерской, так называемой потому, что заглядывает она туда редко. Это самое безопасное место на тот случай, если вдруг дребезжащий звонок нарушит их блаженство, и на порядочном расстоянии от спален на втором этаже, где бродит мужнина тень и где повсюду натыкаешься на его одежду, ботинки, крем для бритья, потрепанный экземпляр «Kirchliche Dogmatic III», и от комнаты сына, плоти от их плоти, заваленной старыми домашними заданиями, моделями космических кораблей, грязными трусами, помятыми экземплярами «Плейбоя» и «Клуба». Смешанным лесом окружают любовников большие, резкие, угловатые полотна Эстер, которые по знанию предмета и уровню исполнения как небо от земли отличаются от робких, реалистичных до последнего лепестка акварелей Верны. Полотна, точно камуфляж, скрывают их от зоркого глаза Небес, хотя самим им видно кое-что из окружающего мира: соседские крыши, крохотные задние двери, мерцающий центр города, а за громадами небоскребов — самолеты, идущие на посадку в международный аэропорт, построенный на месте топких болот. Январь в этом году выдался холодный, холодный до того, что в Вашингтоне отменили парад по случаю инаугурации президента. Эстер принесла сюда электрический обогреватель и перетащила старый, в пятнах матрац, который хранился в пыльном углу за мольбертом, сломанными торшерами и рассохшимся креслом с выцветшей бархатной обивкой. Каким-то чудом рухлядь превратилась в пристойную мебель, и мастерская сделалась уютнее любого другого помещения в доме. Обогреватель пышет оранжевым жаром, обнаженные тела любовников словно плывут вместе с раскаленной спиралью по параболе рефлектора. Обступающий холодок не мешает току их разгоряченной крови; напротив, как сам грех и опасность быть застигнутыми, он только придает силы.