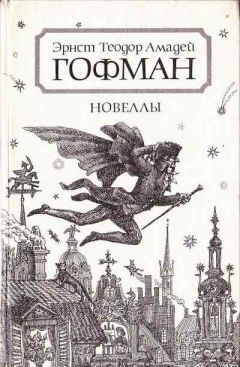Белькампо - Избранное
Ибо не сказано: пойди к муравью, ленивец, и будь прилежным, но сказано: «Пойди к муравью, ленивец… и будь мудрым».[43]
Годится ли здесь «ленивец»? Не следует ли писать «муравьед»?
В обществе мертвых жизнь уже не воспринимается как нечто само собой разумеющееся, над ней начинаешь задумываться: очень хороший поэтому был обычай — хоронить людей в церкви. Но вот Наполеону это пришлось не по вкусу, мертвых вокруг себя он видел без счета и поэтому отменил захоронение в церкви.
Аппиева дорога пролегает через Римскую Кампанию, которую Гёте счел подходящей декорацией для своей жизни.[44]
Сделав крюк через несколько Castelli Romani:[45] Фраскати, Гроттаферрату и Марино, где человек просто не в силах оторваться от вина, такое оно там вкусное — по случайному совпадению именно здесь любили отдыхать римские папы, — я двинулся дальше, в Альбано. При средневековом монастыре в Гроттаферрате мне попалась на глаза любопытная общественная уборная, каких на свете мало. В специально выкопанной излучине защитного рва перпендикулярно к наружной монастырской стене стояла другая стена, десятиметровой высоты. Наверху на ней была дорожка для прогулки, связанная с монастырем воротцами; эта пешая дорожка заканчивалась двумя Рядами келий, сзади опирающихся на консоли и наполовину парящих над бездной — этакие «висячие сады» из персональных домиков.
В Альбано меня задержал полицейский и отвел в ратушу: один человек в кафе, которому я хотел нарисовать портрет, тут же позвонил властям. После проверку паспорта, продолжающейся всегда очень долго, потому что здесь не смыслят в иностранных языках — чиновники, очень много о себе воображающие, не хотят в этом признаться и предпочитают разыгрывать обезьяну с Библией, — один из них грубым тоном спросил меня, чем я тут занимаюсь. «Турист», — сказал я. «Вы не турист, потому что работаете». — «И все же я турист». — «Если вы турист, вам нельзя работать». — «Нет, можно». — «Нельзя!» — «Можно!» — «Нельзя!» — «Можно!» Разгневанный чиновник бросился в следующую инстанцию. Мне пришлось ждать, и чем дальше, тем дольше, а на улице меж тем стояла прекрасная погода. Внутри я начал кипеть, как морской прибой, но не подавал виду, прогулялся туда-сюда по канцелярии и насмешливо спросил, не хочет ли кто-нибудь из синьоров иметь портрет за две лиры. Поскольку никто из них не осмелился реагировать из страха перед начальством, я принялся чистить свои башмаки. Начальство повыше, вошедшее в комнату, возмутилось увиденным, приказало мне все убрать и произнесло: «В присутственном месте это делать запрещается, вы находитесь в Италии, в Италии!» Наконец явился апелляционный суд в лице пожилого чиновника, он был старше годами, но не умнее. Чиновник был явно в замешательстве; вдруг он сунул мне в руки паспорт и сказал: «Уходите, уходите!»
Итальянцам легко внушить что угодно. Запрещается, например, носить перочинные ножи с острыми кончиками. Эти кончики вначале нужно обрезать, чтобы не вспарывать людям животы. Во Франции я купил себе такой ножичек с острым концом, и когда его увидели, то сказали: «Берегись, попадешь в кутузку». «Нет, — сказал я, — не попаду, ведь Муссолини заключил с нашей королевой Вильгельминой специальный договор, что нам разрешается носить такие ножички». Они мне поверили.
К полудню того же дня я был уже у озера Неми, возникшего в кальдере вулкана. Здесь любили отдыхать римские императоры. Дуче приказал его осушить в надежде отыскать там богатые археологические памятники, но нашли только две крытые галеры, принадлежавшие Нерону и то развалившиеся на куски. Они выставлены в сарайчике на берегу: плоские посудины, на которых восседал под балдахином император со свитой, поглядывая на водный балет, или на фейерверк, или на то, ка# христиане отправляются кормить рыб — в фигуральном смысле, разумеется. Это были настоящие суда для вечного штиля, почти что плоты.
Эту ночь я провел у семейной пары преклонных лет; они были очень рады, что в их доме появился молодой человек, и отнеслись ко мне с любовью. Старики в Италии часто бывают особенно жизнерадостны и милы.
На следующий день я пошел в народный дом рисовать; я видел в Альбано, как люди изнывали от безделья, и подумал: для них я стану развлечением, пусть они хоть на время забудут даже видимость работы. Там я услышал, что, как иностранец, для остановки на ночлег должен заполнить формуляр; служащий соизволил мне в этом помочь. Он вытащил лист бумаги и стал чертить на нем линии, отчего и бумага и линейка скоро были вымазаны чернилами; тогда он вытащил новый лист и очень осторожно, на этот раз без клякс, начертил на нем четыре одинаковые клетки. В верхней слева я должен был написать свою фамилию и имя, а также имя отца. Я пишу свое полное имя и уже собираюсь поставить имя отца, как чиновник мне говорит: «Неправильно». Он вытаскивает новый лист и терпеливо рисует свои линии. Теперь я вначале пишу свое имя, имя отца, затем фамилию. В верхней клетке справа должна стоять дата прибытия. Слева внизу — моя фамилия, мое имя и имя отца. Как и в клетке над нею, я пишу сначала свое имя, затем имя отца. «Неправильно, — говорит чиновник, — того же самого быть не должно». — «Но что же должно быть сверху?» — спрашиваю я. «Фамилия, имя и имя отца». — «А под этой клеткой снизу?» — «Фамилия, имя и имя отца». — «Да, но это одно и то же, ведь у меня не две фамилии и не два отца!» — «Нет, это не одно и то же, — говорит он, — здесь должно быть: фамилия, имя и имя отца, а внизу — фамилия, имя и имя отца». Я ничего не могу понять, а он не может понять, чего я не могу понять. Наконец он говорит: «Я сделаю как надо, а вы посмотрите»; он достает два новых листа бумаги, опять рисует на них свои клеточки, на одном ставит кляксу и опять достает новый лист бумаги. В клеточке слева вверху он пишет: «Фамилия и имя, имя отца», а в клеточке по соседству справа — «Дата прибытия». Оказалось, что само имя и дату следует писать в клеточках ниже. Эта морока тянулась битый час, но мы оба были терпеливы, никто из нас не держал зла на другого, и, когда наконец дело было сделано, он удовлетворенно мне кивнул, словно мы с ним вдвоем совершили нелегкую работу.
Я снова двигался вдоль горных отрогов, а передо мной вплоть до самого побережья простиралась равнина. Раньше это были печально известные своей лихорадкой края, маремма,[46] но Муссолини приказал прорыть целую сеть каналов, и теперь здесь выросли сотни новых домиков, жители которых прилежно трудились, уже не страшась лихорадки. Если бы кто-нибудь несведущий увидел все это, он мог бы спросить: «Не дал ли господь эту страну со всем, что на ней живет, людям в дар, говоря: сие да будет вам игрушкой?»
В горах жизнь по-прежнему шла в первобытных формах: соломенные хижины. Чем ближе к югу, тем ближе к естественному состоянию, порой начинало казаться, что попал к дикарям. При виде меня дети давали стрекача, а потом издали швырялись камнями; взрослые, прикрытые скорее дранью, чем платьем, к ступням привязаны прямо- или треугольные куски кожи, останавливались и бессмысленно пялили глаза, и, только если тощая коровенка или несколько задрипанных коз, которые, очевидно, жили с ними одной семьей, вдруг выкидывали какой-нибудь фокус, люди, будто очнувшись, с громкими криками опрометью бросались вдогонку. Крик здесь обычное дело. Кричать здесь общепринято; чем дальше на юг, тем громче крик; обычный, спокойный разговор слышишь все реже, а под конец не слышишь вовсе. Рассудок, что приглушает жизнь чувства у нас, северян, здесь постепенно гаснет, и чувство начинает безраздельно определять все жизненные проявления. В Сицилии так и говорят: «В каждом из нас есть кусочек Этны».
Говорить — значит умерить рамками спокойствия, обуздать рев, вой, вопль и визг. Итальянцы пока что на полпути к этому; может быть, потому они так сильны в пении, которое отчасти есть возврат к необузданности самовыражения.
Игра в карты здесь не только не входит в число тихих игр, она оглушает и выматывает одновременно, потому что игрок шлепает карту на стол каждый раз с такой силой, будто хочет проломить его насквозь. Для сравнения представьте себе англичан с их вистом. Такая же картина и в политических играх на мировой арене.
На большом, выдающемся далеко к берегу плато, где раньше был могущественный город Норба, я долго стоял, глядя на море; линия горизонта казалась отсюда необычайно далека.
Стоя в этом великом городе, от которого ничего больше не осталось, поневоле думаешь: хоть движение вокруг Монетного двора и застопорилось, не следует бояться, что мы застряли навсегда. Если кто-нибудь прочитает в истории, что во времена Второй пунической войны в Норбе держали карфагенских заложников, так сильно она была укреплена, он останется при том же мнении, я же восклицаю: да, так оно было, но как потом все круто пошло под гору! Где гора сама не шла круто вверх, воздвигали громадную стену из отдельных, отесанных и подогнанных друг к другу камней; там, где стена обрушилась, камни лежали врассыпную на склоне, кусок мозаики гигантского формата, ожидающей какого-нибудь чудака англичанина, который бы поставил целью своей жизни снова собрать всю стену и решить головоломку.