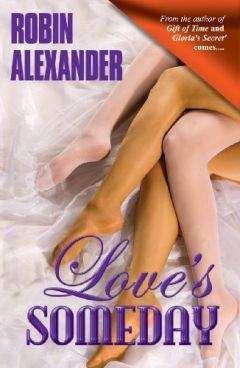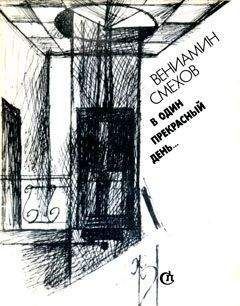Гюнтер де Бройн - Присуждение премии
Он говорит о людях, которые, выйдя из нищеты военного и послевоенного времени, живо откликались на все, что обещало зажиточность, ловко приспособлялись, довольствовались мелким, как лужа, мышлением, отмахивались от щекотливых проблем, использовали вызванную технической революцией тенденцию к специализации, чтобы устроиться потеплей и пожирней, называя добродетелями замалчивание и притворство и опустошая свою душу постоянным лицемерием, — и не замечает, что всей этой замаскированной под обвинение исповедью все больше замыкает возрастную границу между собой и девушкой.
Ибо такого рода скрытое самобичевание ей столь же чуждо, как жителям Центральной Африки — снег. По нечистой совести она узнает стариков этой породы лучше, чем по измятым лицам и седым волосам. Ей уж милее другая, не менее скучная порода — самохвалы, бесконечно твердящие: «Без нас вам не жилось бы так хорошо!»
Но Пауль Шустер ничего этого не чувствует, он все еще безмерно переоценивает свои уже потерянные шансы на успех, когда она говорит:
— В этой истории нет ничего нового. Она показывает, что собственность — еще не все, но ведь это само собой разумеется.
— Само собой разумеется — для вас, потому что вы никогда не знали нужды и бедности, — отвечает он, все еще не понимая, что этим окончательно губит последние ростки симпатии, прежде чем они по-настоящему пробились. И поскольку ядовитые слова, имеющиеся у Корнелии в запасе для таких случаев, прежде чем вырваться, сдавливают ей горло, он продолжает говорить о разных толкованиях этой истории, которые, все как одно, делают его, Пауля, главным героем. Возможно, это он — каменщик, у которого отняли иллюзию, будто упорная работа совместима с личным счастьем, возможно — женщина, бегущая от приобретательства к человечности, а возможно — и возлюбленный, вырывающий из лап роскоши искусство и красоту: все это ему станет ясно лишь в процессе писания.
Он очень рад, что есть слушательница, которую он хотел бы сделать постоянной. Которой в любое время дня к ночи можно прочесть написанное. Которая отодвинет в сторону пишущую машинку, отложит тряпку, бросит суп недоваренным, если этого требует работа, его работа. Которая тогда ничего не будет делать, не будет ни вязать, ни подпиливать ногти. Лицо которой покажет взволнованность, выдаст ее радость, боль. И которая, когда он отложит последний лист и посмотрит на нее, выскажет свое впечатление.
Ясно, куда он клонит! Для нового начала ему нужна новая Ирена, человеческая жертва для ублажения муз. Поскольку его стратегия ухаживания это запрещает, он не говорит Корнелии, что любит ее, но думает это и считает, что нуждается в ней. И как всякий любящий, он хочет ответной любви, а это означало бы для нее отказаться от себя, превратиться в средство для его цели, в резонатор, настроенный на частоту его звуков.
Этого Корнелия, разумеется, не знает. Но если бы она еще не избежала раскинутых им сетей, она получила бы эту возможность сейчас, ибо он, вместо того чтобы предоставить ей слово, полностью подавляет ее собой, предвосхищая, таким образом, их будущие отношения и позволяя ей догадаться, какая ей в них отводится роль. Он говорит о писательской работе, о ее значении для него, но не о значении, которое написанное имеет для других. Добрых полчаса, следовательно, он говорит только о себе самом и притом с девушкой, которой после жестоких потрясений дня так нужно поговорить с кем-нибудь о себе, которая ищет человека, способного уделить ей время, помочь ей собраться с мыслями, доказать ей своим участием и интересом, что и она что-то значит для других.
— Раньше писание было для меня чем-то вроде исцеления от ран, и потому вновь обретенная ранимость — это моя сила, а драконова кожа Зигфрида, которую я носил до сегодняшнего дня, была бы моей литературной смертью, — говорит Пауль, и говорит правду, но она не находит отклика у Корнелии: ничего лучшего, чем такой панцирь, девушка сейчас не представляет себе и говорит это.
Пауль даже не спрашивает, почему она так сказала, он продолжает говорить о себе, о богатстве своего опыта и скудости средств его выражения, пока не открывается дверь террасы и не выходят танцующий Краутвурст, хозяйка дома и гости — все, кроме фрау Краутвурст и Либшера; потягиваясь, как после сна, они с шумом вдыхают свежий воздух.
Когда Корнелия и Пауль вступают в освещенную полосу, разговор идет о прохладе ночи, о прошедшей зиме, о весне, а потом Тео увлекает Пауля в сад и начинает с ним прогулку по пятиминутным кругам, Корнелия же обнимает, на этот раз без слез, свою нежную мать, которую это не радует, а пугает, потому что она неверно истолковывает жест дочери.
Видимо, в юности Ирена начиталась плохих романов. Иначе как объяснить, что она боится сейчас услышать слова: «Я только что обручилась с Паулем» или другую подобную глупость.
21— Я сказал об этом Паулю, — говорит Тео, — тогда в саду, когда вы все были на террасе.
Значит, примерно час назад.
И сейчас, ровно в два часа ночи, если ампирные часы на комоде врут, как обычно, муж повторяет то, что сказал в саду бывшему другу, — повторяет жене, которая уже лежит в постели, не вытянувшись, а приподнявшись и подобрав ноги, то есть в такой позе, когда можно курить, поставив пепельницу на колени, и смотреть на мужа, шагающего взад-вперед перед кроватью. И поскольку верхняя часть туловища опирается на высокое изголовье кровати, нельзя упасть от испуга, когда муж сообщает, что он сказал Паулю, а сказал он ему правду.
Ирена уже умыта, прибрана, причесана. Если бы не блеск ночного крема на лице, можно было бы подумать, что прием только еще должен начаться, торжественный прием, даже бал, к которому вполне подошла бы в качестве платья ночная рубашка.
Тео еще полностью одет, он в костюме и галстуке. Рубашка, ботинки, складка на брюках еще хорошо выглядят, чего нельзя сказать о нем самом. После ухода гостей лицо его побледнело и начинает увядать. Круги под глазами темнеют, морщины становятся глубже, хотя после его речи казалось, что все это уже дошло до предела. Не ведь известно: лишь когда напряжение позади, изнуренность сказывается в полную меру.
И желудок на этот раз все откладывал свой неизбежный бунт. А теперь на атаки, которые в течение дня велись на него, он начинает отвечать контратаками. Он словно бы расширяется, каменеет, давит на легкие и на сердце, затрудняет движения гонит к горлу жгучую кислоту и тошноту.
Слегка наклонившись вперед, Тео ходит по комнате, туда-сюда, туда-сюда, правая его рука прижата к желудку, левая — ко рту, словно он ждет облегчающей отрыжки, а ее все нет. Облик его никак не назовешь гордым, и если бы волнения дня не требовали заключительного разговора, он бы поостерегся предстать в таком виде перед Иреной и шагал бы взад-вперед от боли на кухне. Он не из тех мужчин, что выставляют свои страдания напоказ, вызывая стонами и жестами успокоительную жалость.
У Ирены другие заботы, большие, самые большие за последние семнадцать лет. Ибо она должна сказать ему то, что скрывала почти всю супружескую жизнь, скрывала не только от мужа и, конечно, от дочери, но и от самой себя. Факт, который постоянно угнетал ее, ей удалось упрятать в такую темную даль, что он был недостижим для лучей сознания, покуда неожиданная опасность не залила его ярким светом.
Ирена еще продолжает болтать о вечере, о гостях, о том моменте, когда алкоголь растопил у них лед приличий. Она знает, что ее отвлекающая болтовня благотворно действует на Тео, если попутно показывать свою заботу о нем вопросами о его состоянии. Никак не решить, говорит она, заслуживает Краутвурст насмешки или сочувствия, и в конце концов ничего не остается, кроме как любить его, как любят ребенка. Фрейлейн Гессе, напротив, она находит человеком цельным и симпатичным — что ей, Ирене, нетрудно, поскольку она вполне уверена в Тео. Когда она бранит Либшера, Тео считает себя обязанным заступиться за него. Но и он находит сегодняшние разговоры довольно пустыми, прямо не верится, что их вели люди, чьи головы набиты умными мыслями. Ирена предлагает изобрести аппарат, записывающий не звуки, а мысли, которых умные люди не высказывают и не печатают.
Они говорят, конечно, и о Пауле, о том, что он когда-то обещал, но чего на поверку не выполнил, причем Ирена судит суровей, чем Тео, которого собственная неудача заставляет быть справедливей к другим. Чтобы судить о жизни другого человека, считает он, нужно быть не только его двойником, но и прожить его жизнь. Ведь когда кому-нибудь, как ему Пауль в саду, рассказываешь свою жизнь, все скорей затемняется, чем проясняется, потому что рассказать можно не то, что произошло, а только то, каким теперь видится происшедшее. А для выражения чувств и вовсе нет общепонятного способа; тут каждый — чужестранец для другого и говорит на языке, для которого нет ни словарей, ни разговорников.