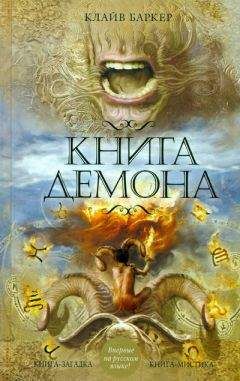Альберто Моравиа - Презрение
почему, глубоко меня взволновала, словно я увидел в ней особенно красноречивое и жестокое подтверждение измены Эмилии.
- А мы уже думали, что вы отправились ночью купаться? _ весело сказал Баттиста, где это вас черти носили?
- Я стоял здесь, на террасе, тихо ответил я.
Эмилия подняла глаза, бросила на меня быстрый взгляд и вновь опустила их; я был совершенно уверен, что она заметила, как я подглядывал за ними с террасы, и знала, что я знаю о том, что она меня видела.
Глава 15
За ужином Эмилия была молчалива, но не обнаруживала сколько-нибудь заметного смущения, и это меня удивляло; я думал, что она, наоборот, будет взволнована, ведь до сих пор я считал ее неспособной на притворство. Что же до Баттисты, то он не скрывал своего торжества и приподнятого настроения и болтал, не закрывая ни на минуту рта, что, впрочем, не мешало ему с аппетитом поглощать блюдо за блюдом и прикладываться, пожалуй, даже слишком часто, к бутылке с вином. О чем разглагольствовал в тот вечер Баттиста? О многом, но я заметил, что, о чем бы он ни заводил речь, говорил он главным образом о себе самом. Слово "я" агрессивно гремело в его речах, срывалось с его уст настолько часто, что это вызывало у меня раздражение; в не меньшей степени злило меня и то, как легко удавалось ему постепенно переводить разговор с самых, казалось бы, далеких тем на собственную персону. Однако я понимал, что этот хвалебный гимн самому себе объяснялся не столько тщеславием, сколько чисто мужским желанием произвести впечатление на Эмилию, а может быть, и унизить меня; ведь он был уверен, что завоевал Эмилию, и теперь, вполне естественно, ему хотелось, подобно распускающему свой ослепительный хвост павлину, немного покрасоваться перед покоренной Эмилией. Следует признать, что Баттиста был неглуп и что, даже теша свое мужское самолюбие, не терял присущего ему практического взгляда на вещи. Все или по крайней мере большая часть того, что он говорил, было интересно; например, в конце ужина он очень живо и вместе с тем рассуждая здраво и серьезно рассказал нам о своей недавней поездке в Америку, о посещении киностудий в Голливуде. Но его авторитетный, не терпящий возражений, самодовольный тон казался мне невыносимым, и я наивно полагал, что таким же он должен казаться и Эмилии; вопреки всему, моя увидели узнал, я по-прежнему почему-то думал, что она все еще относится к Баттисте неприязненно. Это была еще одна моя ошибка: Эмилия не испытывала неприязни к Баттисте, напротив! В то время, как он говорил, я наблюдал за выражением лица Эмилии, и в глазах ее я прочел, что она если не увлечена Баттистой, то по крайней мере серьезно им заинтересована; порой она даже бросала на него взгляды, исполненные уважения и восхищения. Эти ее взгляды приводили меня в замешательство, они были мне, пожалуй, еще более неприятны, чем шумное и неуместное бахвальство Баттисты. Они напоминали мне чей-то другой, но схожий взгляд, однако я никак не мог припомнить, у кого же я его подметил. И только в самом конце ужина неожиданно вспомнил: такое же, или, во всяком случае, очень похожее выражение не так давно я заметил в глазах жены режиссера Пазетти, когда у них обедал. Бесцветный, незначительный, педантичный Пазетти разглагольствовал, а его жена была не в силах отвести от него взгляд, где можно было прочесть и любовь, и глубокое уважение, и восхищение, и преданность. Конечно, отношение Эмилии к Баттисте пока еще не дошло до такого обожания, но мне казалось, что в ее взгляде я уже различаю в зародыше все те чувства, которые питала к своему мужу синьора Пазетти. Одним словом, Баттиста мог ходить гоголем: Эмилия каким-то необъяснимым образом была им уже почти порабощена, и, по-видимому, скоро ее порабощение будет окончательным. При этой мысли сердце мне пронзила еще более острая боль, чем та, какую я испытал, увидев тот его поцелуй. Я невольно нахмурился, не; в силах скрыть своего состояния. Баттиста, вероятно, заметил происшедшую во мне перемену; бросив на меня проницательный взгляд, он неожиданно спросил:
- Что с вами, Мольтени... вы недовольны, что приехали на Капри? Вам что-нибудь не нравится?
- С чего вы взяли?
- Но у вас такой грустный вид, сказал он, наливая себе вина. Вы что, в дурном настроении?..
Итак, он перешел в атаку, зная, что лучший способ защиты нападение. Я ответил с быстротой, самого меня удивившей:
- Настроение у меня испортилось, когда я стоял на террасе и любовался морем.
Он поднял брови и, не теряя хладнокровия, вопрошающе уставился на меня:
- Вот как? И почему же?
Я взглянул на Эмилию она тоже совсем не была взволнована. Оба были невероятно уверены в себе. А ведь Эмилия, несомненно, видела меня и, по всей вероятности, сказала об этом Баттисте. Неожиданно с губ моих сорвались слова, которых я не собирался произносить:
- Баттиста, могу я с вами говорить откровенно? Меня вновь восхитила невозмутимость Баттисты.
- Откровенно?.. Само собой разумеется!.. Вы всегда должны говорить со мной откровенно. Я сказал:
- Видите ли, любуясь морем, я на минуту представил себе, что я здесь, на острове, работаю один, самостоятельно... моя мечта, как вы знаете, писать для театра... И я подумал: вот, как говорится, идеальное место для того, чтобы посвятить себя любимому делу; красота окружающей природы, тишина, спокойствие, моя жена со мной, никаких забот... Потом я вспомнил, что здесь, в таком красивом и таком благоприятном для творческого труда месте, мне придется извините, но вы сами призывали к откровенности, мне придется тратить время на сочинение сценария, который, несомненно, сам по себе штука неплохая, но до которого мне, в сущности, нет никакого дела... Я отдам все силы, все свои способности Рейнгольду, а Рейнгольд использует это так, как ему заблагорассудится, и в конечном счете я останусь с банковским чеком в кармане... потеряв три-четыре месяца лучшей и самой плодотворной поры своей жизни... Я знаю, что не следовало бы говорить такие вещи вам или какому-либо другому продюсеру... но вы сами пожелали, чтобы я был откровенен... Теперь вы знаете, почему у меня плохое настроение.
Почему я заговорил обо всем этом вместо того, чтобы
сказать совершенно о другом, что было готово сорваться у меня с языка и касалось отношения Баттисты к моей жене? Я сам не знал почему; быть может, из-за усталости, неожиданно охватившей меня после слишком сильного нервного напряжения, или, может быть, таким образом вырвалось наружу мое отчаяние, рожденное неверностью Эмилии; я чувствовал, что между ее неверностью и продажным, зависимым характером моей работы существует какая-то связь. Однако Баттиста и Эмилия ничем не обнаружили, что испытали облегчение, услышав мое жалкое признание в собственной слабости, так же как прежде не проявили ни малейших признаков беспокойства при моем таящем угрозу вступлении. Баттиста самым серьезным тоном произнес:
- Но я уверен, Мольтени, что вы напишете отличный сценарий.
Я чувствовал, что пошел по неверному пути, но уже не мог остановиться. И раздраженно ответил:
- Боюсь, что вы меня не поняли... Я драматург, Баттиста, а не профессиональный сценарист, которых теперь развелось видимо-невидимо... И сценарий, как бы он ни был хорош и даже безупречен, для меня будет всего лишь одним из многих сценариев... Работой, разрешите это вам прямо сказать, за которую я берусь исключительно ради заработка... Однако мне двадцать семь лет и у меня есть то, что принято называть идеалами... И мой идеал писать для театра. Почему же я не могу этим заняться? Да потому, что современный мир устроен так, что никто не может заниматься тем, чем ему хочется, а, наоборот, должен делать то, к чему стремятся другие... Всегда все упирается в деньги, от этого зависит и то, что мы делаем, и то, что мы собой представляем, чем хотим стать, наша работа, наши самые заветные мечты, даже отношения с теми, кого мы любим.
Я чувствовал, что слишком возбужден, глаза мои даже наполнились слезами. Я сам стыдился своей чувствительности и проклинал себя за то, что раскрываю душу перед человеком, который всего лишь несколько минут назад пытался причем весьма успешно соблазнить мою жену. Однако такие пустяки не могли нарушить невозмутимости Баттисты.
- Знаете, Мольтени, сказал он, слушая вас, я
словно вижу себя самого, когда мне было столько же лет, сколько вам теперь!
- Вот как? пробормотал я, несколько сбитый с толку.
- Да, я был очень беден, продолжал Баттиста, наливая себе вина, и у меня тоже имелось то, что вы называете идеалами... Каковы же были эти мои идеалы?.. Теперь, пожалуй, я затруднился бы сказать и, быть может, хорошенько не знал этого даже тогда... Но они у меня были... возможно, даже не идеалы, а Идеал с большой буквы. Потом я встретил человека, которому очень многим обязан, он меня многому научил... Баттиста помолчал немного, напустив на себя обычную нелепую торжественность, и я невольно вспомнил, что человек, на которого он намекал, был кинопродюсером, ныне почти забытым, но некогда, в годы становления итальянского кино, весьма известным; в самом деле, свою успешную карьеру Баттиста начинал именно с ним и под его руководством, однако, насколько мне было известно, достойным восхищения в том продюсере только и было его умение делать деньги... И вот однажды, продолжал Баттиста, я высказал ему примерно то, что сегодня вечером говорили мне вы... Знаете, что он мне ответил? До тех пор, пока вы сами хорошенько не знаете, чего хотите, об идеалах лучше вовсе позабыть, их следует отложить подальше, в сторонку... Но как только вы прочно встанете на ноги, сразу же вспомните о них и сделайте своим идеалом... первую заработанную вами ассигнацию в тысячу лир... Вот вам идеал. Потом, как он мне сказал, идеал начнет расти, превратится в киностудию, кинотеатры, фильмы, уже поставленные и те, которые вы только собираетесь ставить. Идеал это наша повседневная работа... Вот что он мне сказал... Я последовал его совету и не раскаиваюсь. У вас, однако, то огромное преимущество, что вы хорошо знаете, каков ваш идеал вы хотите писать пьесы... И вы будете их писать.