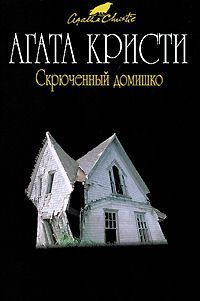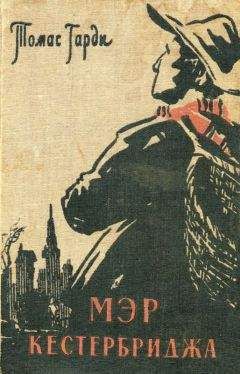Хьелль Аскильдсен - Все хорошо, пока хорошо (сборник)
- Вы правы. Смеяться тут не над чем.
А другого извинения он не заслужил.
Мы помолчали; я подумал о своей бедности и впал в меланхолию. Потом представил себе дом судьи, с удобными стульями и вместительными книжными полками.
- Наверно, у вас и домработница есть?
- Есть. А почему вы спрашиваете?
- Просто пытаюсь представить себе, как живут судьи на пенсии.
- Завидного мало. Ничегонеделанье, сами знаете. И невыносимо долгие дни.
- Да, время не желает идти.
- А осталось только оно.
- Удлинившееся время, возможно заполненное болезнью, что делает его куда более продолжительным, потом конец. А зайдя так далеко, мы думаем: что за бессмысленная жизнь.
- Ну уж, бессмысленная...
- Бессмысленная.
Он не ответил. Никто из нас больше ничего не сказал. Вскоре я встал, хотя чувствовал себя очень одиноко; но я не хотел делить с ним мою хандру.
- Прощайте, - сказал я.
- Прощайте, доктор.
Меланхолия рождает сентиментальность, и слово "доктор", сказанное без тени иронии, обдало меня жаром; я резко отвернулся и поспешил прочь. И, не дойдя еще до выхода из парка, там и тогда, я понял, что хочу умереть. Это не удивило меня; поразило как раз отсутствие у меня всякого изумления. И в ту же секунду меланхолия и сентиментальность улетучились. Я убавил шаг; внутри меня разлился покой, который требовал неторопливости.
Придя домой, все с тем же чувством незамутненного покоя я достал бумагу и конверт. На нем я вывел: "Судье, осудившему меня". Потом я сел к маленькому столику, за которым обычно ем, и принялся за эти записи.
Сегодня я в последний раз ходил в парк. Я был в прекрасном, восхитительном расположении духа; возможно, дело в наслаждении, которое доставило мне описание наших с судьей встреч; но, скорей всего, причина в том, что я ни разу не усомнился в своем решении.
И в этот день он ждал на скамейке. Мне показалось, что вид у него измученный. Я поздоровался приветливее, чем обычно, это вышло само собой. Он оглянулся на меня - проверить, не издеваюсь ли я.
- Сегодня день получше? - спросил он.
- У меня сегодня прекрасный день. А у вас?
- Спасибо, вроде неплохой. И вы больше не считаете жизнь бессмысленной?
- Нет, я считаю ее полностью лишенной смысла.
- Гм. С такой установкой я бы жить не смог.
- Вы забываете об инстинкте самосохранения, этой неистребимой жажде жизни, погубившей многие разумные начинания.
Он не ответил. Я не собирался тут засиживаться, поэтому сказал после короткой паузы:
- Мы больше не увидимся. Я пришел проститься.
- Да? Жаль. Вы уезжаете?
- Уезжаю.
- И не вернетесь?
- Нет.
- Вот оно что. Я надеюсь, вы не сочтете меня навязчивым, если я скажу, что мне будет не хватать наших встреч.
- Спасибо на добром слове.
- Время растянется еще больше.
- Тут на многих скамейках сидят одинокие люди.
- Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Могу я спросить, куда вы едете?
Говорят, когда человек знает, что жить ему осталось меньше суток, он чувствует себя настолько свободным, что ведет себя так, как хочет; это неверное утверждение: даже тогда человек не в силах противиться своей натуре, своему "я". Да, если бы я искренне и честно ответил на его вопрос, это не противоречило бы моим привычкам, но я заранее решил не говорить ему, куда я отправляюсь, чтобы не смущать его, тем более никого ближе него у меня не оставалось. Но что ответить на его вопрос?
- Вы узнаете, - сказал я наконец.
Он помялся, но ничего не сказал. Вместо этого сунул руку во внутренний карман и вытащил портмоне. Порылся в нем и протянул мне визитную карточку.
- Спасибо, - сказал я, засовывая ее в карман. Я чувствовал, что мне пора. Я поднялся. Он тоже встал. Он протянул мне руку. Я пожал ее.
- Всего наилучшего, - пожелал он.
- И вам тоже. Прощайте.
- Прощайте.
Я ушел. Мне показалось, он не стал садиться обратно, но я не оглянулся посмотреть. Я спокойно дошел до дома, ни о чем особенно не думая. Внутри меня все пело от радости. Придя в свой подвал, я постоял немного под окном, глядя на пустую улицу, а потом присел к столу закончить эти записи. Поверх конверта я положу визитку судьи.
Готово. Сейчас я сложу листки и запечатаю их в конверт. И теперь, за секунду до того, как я совершу тот единственный в жизни осмысленный поступок, который человек в состоянии совершить, одна мысль заслоняет собой все остальные: почему я не сделал этого раньше?
МЫ НЕ ТАКИЕ
Я спускался по лестнице пятиэтажного муниципального дома уже практически на восточной окраине Осло; я навещал старшую сестру, что всегда неприятно: у нее слишком много проблем, в основном надуманных, но от этого не легче. Я ее никогда особенно не любил, она меня сроду в грош не ставила. Так что мой визит объяснялся наличием у нее в том числе одной подлинной проблемы - сестра упала и сломала шейку левого бедра.
Я уходил в растрепанных чувствах, довольный, конечно, тем, что визит окончен, но в то же время, раздосадованный, потому что она вынудила меня пообещать зайти завтра снова.
Так вот, спускаюсь я по лестнице, и вдруг между третьим и вторым этажом на моем пути возникает помеха в виде рассевшегося на ступеньке старика. Свою набитую авоську он втиснул между собой и перилами, а я, когда приходится спускаться по лестнице, вынужден держаться за что-нибудь, поэтому я встал у него за спиной. Он как будто не слышал моего приближения, поэтому, немного выждав, я спросил:
- Могу я вам чем-нибудь помочь?
Так как он не ответил и не шелохнулся, то я понял, что он глух или в лучшем случае туговат на ухо, и повторил свой вопрос громче.
- Нет, благодарствую, вряд ли вы мне поможете.
Я вздрогнул, пораженный не столько ответом, сколько звуком его голоса - он показался мне знакомым; превыразительный: глубокий и вместе с тем резкий, такой не спутаешь. И этот голос никак не вязался с теми обтрюханными лохмотьям, которые были на старике.
Следствием того, что я по голосу принял этого мужчину за знакомого, стал неожиданный приступ тщеславия. Вместо того чтобы попросить его убрать сумку, я, не желая выдать, как плохо слушаются меня ноги, отпустил перила и обошел его по стеночке. Все сошло благополучно, но когда я вновь добрался до перил и оглянулся, оказалось, что я обознался. Этого старика я видел впервые в жизни.
Похоже, на моем лице отразилось недоумение, а поскольку он не догадывался о его причине, а к тому же выглядел спереди еще грязнее, чем со спины, и, должно быть, пообвыкся с тем, что производит не самое благоприятное впечатление и возбуждает любопытство, - поэтому, наверно, он сказал, то ли извиняясь, то ли с вызовом:
- Я здесь живу.
- Понятно.
- Силы кончились вот.
Как бывший фотограф я немного разбираюсь в лицах, и, когда я стоял и рассматривал старика, мне пришло в голову, что и внешность его тоже не сочетается с этими жалкими обносками. Она была не менее запоминающейся, чем голос.
- Вам точно не нужна помощь? - сказал я то, что чувствовал себя обязанным сказать, потому что мне показалось, что я разглядывал его слишком долго.
- Совершенно точно. Но большое спасибо.
- Тогда до свидания.
Я ушел; никакой причины скрывать от него, как я вцепляюсь в перила, я больше не видел.
На другой день я опять пошел к сестре, поскольку обещал, а в этом смысле я старомоден, хотя на улице мело так, что искушение позвонить и отговориться от визита было огромным. Но я пришел, эта бездельница на костылях открыла дверь и стала требовать, чтобы я стряхнул с себя снег на площадке. Я отказался. Сказал, что могу уйти обратно. Тогда она посторонилась. Я зашел в квартиру, повесил пальто и положил на полку шляпу. Сестра ковыляла передо мной и села на стул. Мне остался диван. Я сказал, что у нее слишком жарко. Она на это не ответила. А заявила, что у нее перегорела лампочка в люстре на кухне. Тут я помочь не мог, у меня голова очень кружится. Когда я попытался ей растолковать, какие у меня головокружения, она заявила, что такого вообще не бывает и это мои придумки. Я мог бы много чего ей возразить, но не стал - все равно без толку. Но сестра не унималась, она стала утверждать, что головокружение обусловлено психикой, а в моем конкретном случае тем, что я ни разу в жизни не взял на себя ответственность. Я разозлился и встал. Чтобы уйти. Обещание свое я выполнил. Теперь мне пора. Видно, сестра поняла это, хотя вряд ли, как бы то ни было, она попросила меня принести с кухни поднос с рождественским пирогом, термос с кофе и чашки. В этом я не мог ей отказать. Я притащил все с кухни и поставил на столе между нами. Куски нарезанного пирога были густо намазаны маслом. Славно, сказал я примирительно, и она, что меня удивило, обрадовалась. Сказала, что сама его испекла, и я не слишком убедительно ответил, что сразу это почувствовал. Но что правда, то правда: пирог был весьма недурен. Мы помолчали. Я сидел, смотрел, как метет за окном, и прикидывал, что было в жизни моей сестры радостного, и, хорошенько все обдумав, заключил, что, судя по всему, ничего; тогда мне захотелось сказать ей что-то приятное, другими словами, я поддался сентиментальности, скорей всего, из-за снегопада за окном и жары в комнате - но я не успел еще раскрыть рта, как она спросила, не сыграю ли я с ней в кости. Она спросила точно как ребенок, заранее уверенный в отказе, и хотя мне игра в кости радости не доставляет, там все дело случая, но сестра спросила так, что у меня не хватило духу отказать, к тому же мне не хотелось выходить на метель. Она сказала, что стакан, кости и блокнот лежат в секретере, по стене над ним была развешана вся семья, довольно большая, и все они, мертвые вперемежку с живыми, пялились на меня со стены - жуткий паноптикум. Достав кости и блокнот, я вернулся к столу. И мы начали играть. Дважды подряд сестра высыпала кости так неаккуратно, что кубик падал на пол, причем во второй раз он закатился под кровать и мне пришлось на коленках выуживать его оттуда, а сестра, следя за моими ухищрениями, заявила, что штаны протерлись сзади. Это я знал, но меня рассердило, что она позволяет себе такие комментарии, я никогда не считал, что неумышленное родство дает право на бестактность, так я и сказал. Ну прости, сказала она на удивление миролюбиво, видно боясь, что я откажусь играть дальше. Я промолчал, потому что вспомнил вдруг того оборванного старика на лестнице. Вчера по дороге домой я решил спросить ее, кто это такой, и сейчас совсем собрался задать этот вопрос, но передумал: мне не хотелось, чтобы она подумала, будто он вызывает у меня ассоциации с собственными залоснившимися штанами. Я подал ей кубик, и мы заиграли дальше. Когда, на мой взгляд, прошло достаточно времени, я сказал, что вчера встретил на лестнице доброжелательного мужчину в летах, который показался мне вроде знакомым, кто это такой? Она не могла понять, о ком я говорю, наверно, он приходил в гости. В их подъезде живет только один старик, не то что не доброжелательный, а жуткий, наверно, бомж, получивший квартиру через социальную опеку. Это как раз он, объяснил я. Она смерила меня тем еще взглядом, но я сделал вид, что меня это не тронуло, и спросил: как все-таки его зовут. Ларсен, фыркнула она обиженно, или Енсен, что-то совсем простое. Я решил подразнить ее и сказал: бедняга, даже имя у него не достаточно хорошее. И тебе не стыдно, сказала она. Чуть-чуть, сказал я, твоя очередь. Она стала клясться, что ее никто не может упрекнуть в снобизме, а вот я разыгрывал доброго самаритянина перед Лазарем, хотя на самом-то деле меня не допросишься даже лампочку на кухне поменять, и что хотела бы она посмотреть, как бы я запел, если б социальная опека стала заселять своих клиентов ко мне в подъезд. Я, не буду скрывать, рассвирепел, особенно меня задело, что она приплела сюда лампочку, поэтому я собрался ответить так, чтобы ранить ее поглубже и побольнее, но, не дождавшись меня, она запрокинула голову и разрыдалась. Она плакала с открытыми глазами и открытым ртом, ее сотрясали рыдания, рвавшиеся, насколько я понял, из самого нутра. Мне следовало, наверно, подойти к ней, попробовать утешить, положить руку ей на плечо или погладить по волосам, но меня сдерживала ее реплика о милосердном самаритянине. Поэтому я сидел, тяготясь беспомощностью, ее рыдания были мне непонятны, не думаю, чтоб мне доводилось видеть ее плачущей, может, в детстве, во всяком случае, она не плакала на похоронах ни отца, ни матери и в моем представлении не имела отношения к слезам, поэтому я не мог понять этого припадка, который все длился и длился, объективно, наверно, не так уж долго, но я полностью выдохся, я чувствовал все большую растерянность и в конце концов спросил ее: чего она плачет? - не для того, понятно, чтобы узнать ответ, а только в надежде остановить ее рыдания и таким образом покончить с моей растерянностью. Наконец, когда я задал тот же вопрос уже во второй раз, она взвизгнула тем пронзительно-пресекающимся голосом, который часто завершает рыдания: я не такая, не такая! Затем она уронила голову на грудь, и стало тихо. Я подумал: странная манера засыпать. Но она не спала, она умерла.