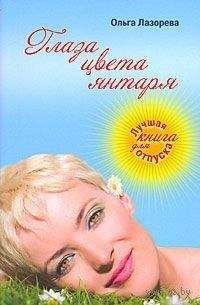Геннадий Николаев - День милосердия
То, что преступление Печерникова будет квалифицировано по части I статьи 92, было для Николая Александровича очевидно: «Присвоение либо растрата государственного или общественного имущества, вверенного виновному, а равно завладение с корыстной целью государственным или общественным имуществом путем злоупотребления должностного лица своим служебным положением» — так гласила статья. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет...
Печерников от жалоб, заявлений, вообще от выступления отказался, мотнув низко опущенной головой. Николай Александрович открыл было рот, чтобы предоставить слово прокурору, но защитник вскинул палец и из вороха бумажек извлек какой-то документ.
— Прошу приобщить к делу, —-сказал он, помахивая листочком. — Похоронка, полученная Анной Тимофеевной, бабушкой обвиняемого. В сорок третьем году она потеряла мужа, и на ее руках остались две малолетние дочери, ее собственная мать-старуха и отец погибшего мужа, инвалид третьей группы.
Он передал похоронку Николаю Александровичу. Потрепанная, стершаяся на сгибах бумажка, траурная кайма, серое, казенное слово «Извещение» и выцветшая от времени запись фиолетовыми чернилами «Деревня Иван Устинович». После слова «похоронен» стояло жирное тире, и у самого края, уже другим почерком — ломаным, похожим на детский, — было приписано «Донец».
То, что дразнило память и никак не вспоминалось, вдруг вспомнилось разом, в мельчайших подробностях, ошеломив и смутив Николая Александровича. Судебное разбирательство пошло как бы само по себе, а он перенесся мыслями, памятью в иные времена, в иные дали.
3
Стояли знойные дни июля. Берег реки и прибрежная полоса степи были выжжены солнцем и войною, катившей свой гибельный вал уже в четвертый раз по одному и тому же месту. Бугристая левобережная низинная земля, в которую вкопалась на скорую руку пехота, была испещрена воронками, перемята гусеницами, припорошена гарью. Еще вчера полк Фомина был на том берегу, а сегодня снова надо готовить людей к атаке, чтобы отбить у немцев оставленные позиции.
На склоне холма, в полукилометре от передовых цепей, в штабном блиндаже, поспешно расчищаемом от завалов четырьмя солдатами, командир полка Фомин совещался с комбатами и замполитами, ставил задачи, уточнял время. Батальон Николая Александровича должен был обеспечить полк подручными средствами для переправы. Николай Александрович сразу же по телефону связался с саперами, но ни в дивизии, ни в армии ничем помочь не могли — где-то южнее готовился главный удар, и все средства стягивались туда. Доски, бревна, плетни, жерди, ставни с окрестных хуторов, связки хвороста, разбитые лодки— все, что использовал полк во время недавнего форсирования, было брошено на том берегу или унесено течением. Времени на размышления почти не оставалось — к утру полк должен был во что бы то ни стало перебраться на западный берег.
Николай Александрович доложил Фомину о положении, надеясь если не на помощь, то хотя бы на сочувствие. Фомин, обычно спокойный, сдержанный, выругался в сердцах и, отводя глаза, сказал: «Переправа за тобой. Ищи где хочешь, хоть под землей».
Где ползком, от воронки к воронке, вдоль ровиков, промытых вешними водами, где короткими перебежками, прячась за уцелевшие кусты, Николай Александрович вернулся в расположение батальона и тотчас отправил связного Алешу за ротными.
КП батальона располагался в широкой воронке, к ней с трех сторон сходились неглубокие траншеи, отрытые бог знает когда и кем. Земляной вал был усилен с западной стороны, превращен в бруствер, на дне коробился втоптанный в глину хворост. Прикрывшись ладонью, узкоплечий связист Иван Деревня монотонно бубнил что-то в трубку, добиваясь связи. Рядом с ним на земле валялись катушки с проводом и бечевкой, ящики с батареями, вещмешок, трофейный рожковый автомат.
В ожидании ротных Николай Александрович решил получше изучить правый берег. Выглянув за бруствер, он схватился за бинокль. По реке течением несло плоскодонную баржу. На ней вповал, задрав ноги, лежали лошади — отчетливо видны были черные пятна запекшейся крови на вздувшихся боках, рваные раны, оскаленные морды, остекленевшие глаза. Несколько секунд он потерял, прежде чем сообразил, как важна для полка эта невесть откуда взявшаяся баржа. Еще несколько секунд было упущено, пока до него дошло, что баржа уплывает и ее надо ловить немедленно. Две-три секунды потратил сам связист, пока уразумел, что требует от него комбат. И только после всей этой томительно долгой возни со стягиванием сапог, с выкладыванием документов, с торопливым разматыванием бечевки, с поисками финки и первыми, осторожными попытками выбраться из воронки начался отсчет «чистого» времени, последних двух десятков минут жизни Ивана Устиновича Деревни.
Когда связист наконец выполз на бруствер и ловко, то полуприсядкой, то кубарем, покатился к реке, Николай Александрович подумал, что, наверное, есть какая-то судьба со знаком плюс к нему, Николаю Александровичу: ведь выгляни он минутой-другой позднее, и баржа скрылась бы за поворотом реки...
4
Но теперь, в зале суда, глядя на понуро стоящего Печерникова и видя перед собой плывущего к барже связиста, Николай Александрович вдруг ощутил, как некоей неведомой, но прочной связью соединились воедино то, давнее, и это, нынешнее, — соединились той самой бечевой, один конец которой связист Деревня успел привязать к барже. Да, благосклонность судьбы к нему, Николаю Александровичу, и еще ко многим таким же счастливчикам ниспослана была в тот день не даром, не просто так — взамен была потребована жизнь связиста. И именно с того самого момента, как погрузился безвозвратно в мутные воды Донца Иван Устиновнч Деревня, определилось дальнейшее существование многих и многих людей, в том числе и родственников Ивана Деревни, и самого Николая Александровича со всей его впоследствии разросшейся семьей... Но ясно и другое: шла война, страшная война — были жертвы, огромные жертвы. Погиб связист, погибли еще тысячи людей, с которыми Николай Александрович воевал бок о бок. У него нет оснований в чем-либо упрекать себя или испытывать угрызения совести. Ведь и он мог с той же степенью вероятности остаться в степях Украины, предгорьях Карпат или на улицах Будапешта.
«Можно подумать, что этот Печерников приходится мне родственником», — подумал он, откидываясь на высокую спинку судейского кресла. Заседание, вышедшее было из-под его контроля, снова вошло в четкий деловой ритм. Разбирательство приближалось к завершающей фазе: задавались последние уточняющие вопросы, делались заявления, давались справки.
— Скажите, Печерников, вы не состоите на специальном медицинском учете? — спросил прокурор Мончиков.
Печерников тупо посмотрел на него, вяло пожал плечами.
— Да или нет? — подхлестнул Мончиков.
— Нет, — чуть слышно ответил Печерников, ковыряя ключом трибуну.
— Громче! Ты что, не завтракал? — не выдержал Мончиков. — Громче! И не трогай трибуну. Руки! Руки убери!
Печерников вытянул руки по швам, ключи упали на пол. Он наклонился поднять их, но оступился, потерял равновесие и растянулся боком у подножки трибуны. В зале раздались смешки. Николай Александрович постучал карандашом по столу, призывая к порядку.
— Можете сесть, Печерников, — сказал он, испытывая раздражение из-за неловкости обвиняемого.
Печерников, прихрамывая, вернулся на свое место в первом ряду.
Глядя, как Печерников, морщась, растирает ушибленное колено, Николай Александрович вдруг снова почувствовал легкое замешательство — чем-то этот парнишка напомнил ему давнее, почти забытое. Что-то знакомое померещилось в движениях руки Печерникова, в этих полусогнутых пальцах, в тонкой, неестественно согнутой кисти. В зале возникла томительная пауза. Николай Александрович встретился с хмуро-вопросительным взглядом Мончикова и почему-то вспотел.
— Позволите? — чуть надменно спросил Мончиков и, не дожидаясь позволения, встал, выпятил грудь, подобрал живот. Его серые навыкате глаза как бы затвердели, застыли, отгораживая то, что приводило в действие его аргументированную мысль, которая вот-вот должна была излиться в веское и столь же твердое слово, от окружающего мира, от всяческих случайных или умышленных нежелательных воздействий.
Николай Александрович кивнул немного запоздало, мыслями он был далеко. Память упорно восстанавливала, штрих за штрихом, внешность Ивана Устиновича Деревни: вот он, сухощавый, веснушчатый, с диковатыми рыжими глазами, в которых смешались отчаянная решимость и предчувствие обреченности. Сутулая костистая спина, гимнастерка в белых разводьях выступившей соли, руки с полусогнутыми пальцами проворно распутывают перехлестнувшуюся на катушке бечеву. Руки! Вспомнилось! Так же неестественно повернутые кисти, по-детски тонкие, так же полусогнуты пальцы... «Ничо, ничо», — отрывисто повторяет связист, то выныривая головой над бруствером, чтобы взглянуть на баржу, то снова сгибаясь над проклятой бечевой. «Ничо, ничо, успеваю». — «А плавать-то умеешь?» — спрашивает Николай Александрович. «Мало-мало могу...» И потом, когда связист побежал, покатился к воде и с трех высот западного сумеречного берега застучали немецкие пулеметы, Николай Александрович (вспомнилось и это!), стиснув рукою глаза, уткнулся в землю, вдруг затрясся почти истерически. Он точно помнит, что слез не было, он не плакал, но в глазах почему-то все мутилось и мерцало, и он плохо видел, что происходит там, на реке. Бечева быстро, рывками сматывалась с катушки и уходила за бруствер. Потом она плавно натянулась, врезалась в земляной вал, напружинилась. Николаю Александровичу пришлось чуть стравить ее, поднырнуть под нее спиной, а ногами изо всех сил упереться в катушку. Отжимаясь всем телом и перехватывая бечеву руками, он медленно, по сантиметрам, стал подтягивать баржу к берегу. Кожа на ладонях стерлась до крови, он вынул пистолет и стал наматывать бечеву на ствол, переворачивая пистолет то так, то этак, захватывая концом ствола все новые и новые витки. Наконец появился приползший с правого фланга связной Алеша — вдвоем дело пошло быстрее, и баржу вскоре прибило к берегу метрах в двухстах от комбатовской воронки. Стрельба утихла. Долго, пока совсем не стемнело, следили они за баржей, но ни в воде, возле баржи, ни на самой барже не заметили никакого движения — лишь раздерганные пулями лошадиные туши безжизненно чернели на фоне светлой от закатного неба воды.