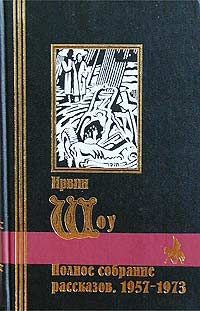Майя Луговская - Портрет
— Может, раскаяние?
— Раскаяние? Не говорите глупостей. Какое может быть раскаяние? Они себя ни в чём не винят. Вор украдёт, ограбит — за это его накажут, посадят. Ненаказуемо, когда обворовывают твою жизнь, творчество. Они считают, что он им всем обязан. Они торгуют всем, что от него осталось. Монографию сейчас издают.
— Но почему же вы так возмущаетесь? Выставки, монографии — это же хорошо.
— Он был требовательный к себе. И скромный человек. Он этого бы им не позволил. Я знаю. Вот тут у него хватило бы смелости восстать. Но его уже нет. Вот вам ситуация. Может быть, вы и поймёте меня. Как мне с ними бороться? Не развенчивать же мне собственного отца? Сейчас удобней всего считать меня алкоголиком. Они же меня и «спасают». И выхода из всей этой мерзости я не вижу.
Он перестал рисовать, посмотрел на Нину, потом на доску с бумагой, потом опять на Нину. И начал что-то подтирать, теперь уже мизинцем.
— И всё-таки выход есть, — сказала Нина.
— Какой? Повеситься?
— Работать!
— Как это просто говорить! Вы думаете, работать мне легко?
— Понимаю. Нелегко. И всё-таки — работать.
— Ну, хорошо. Работать так работать. И я так думаю. Надеюсь, хочу надеяться. Можно же мне хотя бы надеяться?! — он швырнул карандаш. — Только не считайте себя, пожалуйста, ответственной за то, что я вам тут наговорил. Но вы ведь сами накручивали что-то там относительно художника, взаимосвязи с моделью, проникновения и всякое такое. Так вот, считайте, я всё это вам рассказал, чтобы постичь вас как натуру, это был приём, чтобы вытащить из вас… — он улыбнулся беспомощно и мягко.
И вдруг опять лицо его стало жёстким — Верочка ворвалась в комнату.
— Нина, Нина! Он позвонил. Понимаешь? Позвонил из Сочи. Сказал, скучаю. Зовёт, просит приехать. Говорит, всё устроит для моего отдыха.
«Не так он глуп, её Борис», — подумала Нина.
— Я так и знала.
— Я тоже знала, что этим кончится, но всё-таки мерзавец. И я, конечно, никуда не поеду, — засмеялась Верочка.
Сообщая всё это, Верочка забыла о присутствии Антона. Но спохватилась:
— Я вам мешаю?
— Да нет. Я уже закончил. Вот собственно всё, что мне удалось сделать, учитывая возможности, условия работы, обстановку и срок выполнения заказа.
— Вы писали ровно пятьдесят минут, — сказала Верочка, взглянув на свои синие часики.
— Я не думал о времени. То есть я думал о нём.
— Можно посмотреть? — и, не дожидаясь разрешения, Верочка взглянула.
Она растерянно молчала. Нина вдруг заволновалась.
— Что же вы сидите? Разрешаю разминку. Вы хорошо мне позировали.
Он встал, снял бумагу с доски, осторожно положил на стол.
— Я не уверен в карандаше. Надо бы под стекло, окантовать.
Верочка на цыпочках вышла из комнаты.
Нина могла ожидать чего угодно, только не этого. Совершилось чудо. Да, здесь, у неё на глазах совершилось чудо. Иначе этого нельзя было объяснить. Со старой, серой бумаги на Нину глядела её мать. Разительное сходство потрясало. Она смотрела на Нину и ещё куда-то, далеко. Это была её мать, любимая, незабвенная. Женщина высокой судьбы, хирург, учёный, человек того, уходящего, блистательного поколения подвижников. Её мать, образ которой Нина несла в себе как святыню. Всепонимающе, мудро и добро на неё смотрела её мать, только немного более молодая, чем Нина помнила её, более красивая, чем-то смутно и отдалённо похожая на Нину.
Что это? Как мог незнакомый Антон, из-под всей накипи, всех напластований, всех слоёв её жизни вытянуть и разглядеть дорогой для неё образ. Недосягаемый.
Верочка притащила с собой всю ватагу гостей. Они столпились у стола. Молчание длилось всего лишь несколько секунд. Потом все разом заговорили:
— Замечательно!
— Похоже, удивительно похоже!
— Не похож.
— Недостаточно похож.
— Какое это имеет значение! Кажется, Веласкес сказал — не похож сейчас, будет похож через пятьсот лет.
— Какая лёгкость. Вы только посмотрите, как написаны волосы.
— Реалистический портрет, и какая прелесть!
— А главное — красиво. Нет этого желания изуродовать человека, как это модно теперь у художников.
— Прелесть, прелесть.
Антон оставался совершенно обособленным среди этого хора восторгов. Лицо его ничего не выражало. А Нина была смущена.
Люсичек восторгалась больше всех:
— Чудесно, чудесно! — восклицала она и тыкала красным ноготком несгибаемого пальчика, своим бессменно указывающим перстом, прямо в бумагу. — Скажите, за сколько вы бы могли продать эту вещь?
— Мне она не принадлежит. Я подарил её своей модели.
— Не может быть! — воскликнула Люсичек и уронила очки. — В Америке она бы стоила сотни долларов. Нет, неужели вы подарили этот портрет? Не может быть!
Портрет сделался коронным номером программы сегодняшнего вечера.
— Следующий будет мой, — сказала Верочка. — Я даже знаю, где его повесить. У меня есть роскошная рама для него, я хотела вставить в неё зеркало. И всё же, — обратилась она к Антону, — если только вы не рассердитесь на меня, я бы что-то сделала с бумагой. Она такая скучная эта бумага, как грязная. Такой удивительный портрет. Сделайте что-нибудь. Может быть, можно как-нибудь её подкрасить, она всё портит.
— Это идея, — сказал Антон. — Я с вами совершенно согласен.
— Да не прикасайтесь вы к нему, ради бога. Ведь это маленький шедевр, и его можно только испортить. Послушайтесь меня! — взмолился один из гостей.
— Сегодня я слушаюсь только женщин, — сказал Антон, собираясь взять портрет.
— Но, может быть, правда, лучше не трогать, — остановила его Нина.
— Мы его обязательно тронем. Мы его только слегка подтонируем. Дайте мне его сюда.
— Нет, не отдам.
Антон рассмеялся, весело и озорно. Нина отметила, что он засмеялся в первый раз.
Верочка подливала Антону вино, он был оживлён и не отказывался.
— Не сопьётесь. Вы сегодня молодец, так чудесно поработали, вы сегодня добрый. Доброе вино не страшно, спиваются только от злого вина.
«Выпить, обязательно выпить», — думала Нина. Ей предложили коктейль «Верочка», его изобрели сегодня, здесь, и он был ледяной, розовый и прозрачный. Её обожгло. Ей протянули соломинку и повторили коктейль. И сразу пришла радость.
Только за полночь Нина собралась уходить, и Антон вызвался её проводить.
Целуя Нину на прощанье, Верочка шепнула ей:
— Желаю!..
— Мы ещё успеем к метро, — сказал Антон.
— Нет, ближе к стоянке такси.
— Имейте в виду, денег у меня нет.
Они направились к стоянке. Лил дождь, неистово и оголтело. Но сейчас для них он был третьим объединяющим началом.
— Дождь омоет весь наш континент, — сказала Нина и вспомнила, что слышала уже от кого-то эту дурацкую фразу.
— Пусть хлещет, я люблю дождь. Дворникам меньше работы.
— Я совсем не могу вас представить… Скажите, какие у вас волосы?
— Скоро увидите. Они-то отрастут.
Зелёный маячок такси раздвинул массу дождя.
— Мне провожать вас до дому? Но тогда мне не на чем будет вернуться к себе. У женщин я в долг не беру.
Ей так не хотелось оставлять его здесь, под дождём, одного.
Нет, только не сегодня. Она хочет остаться одна, со своим портретом. Антона она не предаст. И он знает это. Он знает, что уже существует в ней.
Антон открыл дверцу машины и улыбнулся.
Нина ехала домой, голова её кружилась. А улыбка, так меняющая его лицо, стояла у неё перед глазами. На груди под плащом в полиэтиленовом пакете, который подарила Люсичек, она держала портрет.
За окном по-прежнему лил дождь. Но как это ни странно, Нине казалось, что она не одна у себя. Портрет заполнил её дом.
Хотя бы в одну каплю быть похожей на него, думала Нина. Удастся ли ей когда-нибудь обрести ту мудрость, силу, широту, которыми богата была её мать. Удастся ли ей сделать в жизни большое, важное, нужное людям? Она вопомнила Антона и улыбнулась. Почему-то всё, что происходило до сих пор, как-то удивительно отодвинулось. Будто целая вечность отделила её от всего, и она чувствовала себя счастливей и добрее.