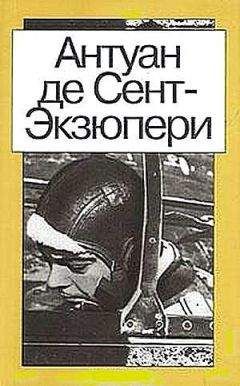Арно Шмидт - Гадир, или Познай самого себя
Час спустя
Подковка превосходная: крепкая, как лезвие ножа, длиной с большой палец и отлично закалена. Я перепилю оба прута внизу, а потом попытаюсь отогнуть их вверх. Если не получится, перепилю и сверху. У меня самая настоящая лихорадка, да и сердце стучит как барабан: сначала придется плыть к острову, примерно пятнадцать-двадцать стадий, то есть два-три часа - но я пока чувствую себя достаточно сильным, приседал же я сегодня. Там, на острове, две усадьбы, значит, должны быть и лодки; возьму одну и доберусь до материка, и так далее, и так далее.
Лучше всего, если бы удалось сейчас заснуть.
Вечером
Не могу спать, не могу. Эти сумерки бесконечны!
Перед глазами проходят целые картины, все слева направо и очень быстро: колышущиеся хлебные колосья, тяжелые и пронзительно-золотые; движущиеся вереницы телег; невнятные выкрики из зияющих солдатских глоток; стремительный пенный след на воде; по левому борту скользит, нескончаемо-зеленый, берег Британики, и разве не мы сами, молокососы, орали "Смерть тимухам", освещаемые полной луной?
Руки кажутся нечувствительными и неприятно-теплыми - раньше я ощущал их такими, только когда бывал сильно пьян. В сумеречных далях все еще не видно ни одной звезды. Ну что же: придется еще какое-то время поиграть с легкомысленными перистыми облаками.
Ночь
и в неутомимых пальцах кусок металла: дело движется! Медленно, конечно, но движется (собственно, пилить можно будет лишь через несколько минут, когда ночной патруль отойдет подальше; как только слышится двойной перебор неторопливых шагов, я вынужден прекращать работу. Кожа на большом и указательном пальцах уже стерлась и покрылась волдырями, но я продолжаю!).
Спустился вниз (пауза)
Когда я был молод, луна представлялась мне плодом с пенно-шелковистой мякотью и зазубренной серебряной косточкой в середине - плодом, висящим в переплетении усиков и извилистых стеблей. Сейчас посреди моей камеры застыла куском стекла световая лужа: была бы она круглой, я бы уплыл на ней, как на глыбе льда, в черную бесконечность, подгоняемый молниеносно-быстрым течением, словно последний человек на Земле (или первый: интересно, что хуже?). Пора взбираться на стол и приниматься за работу!
Над вершиной горы Матос появилась Утренняя звезда
Один
прут
уже
перепилен.
52, 122
Два часа провалялся, закутанный в одеяло; потом, чтобы не привлекать внимания, все-таки сел за стол. Голова лежит на ладони (тяжелая, как метательное ядро). Попытаюсь сэкономить еще кусок хлеба; надеюсь, до вечера рука более-менее подживет, и я смогу ею работать (или придется перепиливать прут слева направо; собственно, а почему бы и нет?).
Быстро накорябал в "официальной" тетради несколько формул, о навигации на большом круге и т. д. (им всегда требуются "прикладные" науки: тоже очень характерно для варварского духа). Хотя, если быть справедливым, не только для варварского: в этой связи можно вспомнить о судьбе моей книги про периоды. Одному издателю она показалась слишком длинной; другому - излишне смелой в своих философских выводах (я там кое-что ввернул против государственной религии); у третьего подошли к концу запасы папируса; четвертый хотел напечатать, для любителей сенсаций, только рассуждения о крайнем Севере - в виде своего рода милетских новелл (был, кстати, в восторге: как же, влияние Луны на движения Мирового океана! Подобные темы всегда его привлекали!) - в конце концов я позволил Диагору сделать копию книги для себя лично, "первое и единственное издание в двух экземплярах", после чего опять, на свою беду, отправился в Гадир. Думаю, немногое из "Периодов" сохранится для потомков; плевать: и без того в мире больше книг, чем глаз, способных их прочесть.
Стук отворяемого оконца
Ах да, вода и ячменный хлеб. Плюс к этому всегда свежий воздух и днем, без ограничения, свет. Ладно, теперь уж ждать недолго! - между прочим, многие бы еще спасибо сказали (мой папаша, к примеру, когда служил в Массилии, постоянно твердил: другим живется гораздо хуже! Глядя, с какой жадностью я, подросток, глотаю пищу, он всегда недовольно ворчал: "Погоди, когда-нибудь у тебя не будет чем набить брюхо!" Правда, сам спускал две трети жалования в портовых кабаках - с гетерами самого низкого пошиба. Да уж, мои родители, вообще родители... Это особый разговор!)
Ощущение, будто спина восковая и по ней струится ледяная вода; я болезненно возбужден (что неудивительно). Сегодня даже болтовня дозорных кажется раздражающе громкой; проклятые скоты. Надеюсь, веревка из одеяла выдержит, если разрезать его на десять полос; восемь полос, конечно, было бы надежнее, принимая во внимание ветхость этой дерюги, но высота внешней, обращенной к морю стены не менее тридцати стоп; в случае чего можно будет подвязать плащ.
Поем немного; мне нужны силы для предстоящего побега (и, главное, для теперешнего ожидания - с каким комфортом это свинорылое солнце развалилось в студенистой облачной луже!!! Хоть бы вспомнилось какое ругательство покрепче, чтоб тебя притушить: в Туле один северный варвар употреблял словечко "скрамасакс" - выговаривается трудно, как все языческие слова, но зато слух режет потрясающе; попробую? Ну да! Хоть руками отгоняй его прочь - подальше в туманное марево! Уф!)
Ненавижу
Аппий Клавдий Каудекс. Квэкс, квэкс. Консул Аппий Клавдий. Чушью занимаюсь; нервы расшалились, как у новиция в Элевсине: хватит, пора к окну; все услышанное может пригодиться!!!
Факты таковы
Карфагенская пехота под водительством (некоего) Ганнона при Регии - или при Мессане: упоминались оба названия - была наголову разбита римлянами. "Консул" значит что-то вроде "суфета" (а "каудекс" что значит - "высунь хвостик"?! Хорошая кличка для здоровенного негра; правда, я латынь знаю плохо; мне больше нравится переводить "каудекс" как "готовый сгореть" . Все шутишь, Пифей!)
Жду у окна
(вместо того чтобы отдохнуть!) И сердце стучит, как копыта рысака; но солнце наконец закатилось за ограду.
Тело ощущает себя каким-то грибом: будто я могу осторожно зажать его в кулаке и раз - (все что угодно, начинающееся с "раз..."); правая рука вроде опухла в суставе (может, я потому так копаюсь в своих ощущениях, что слишком долго не было никаких других объектов для наблюдения - только я сам да еще пара звезд. Надеюсь, что дело в этом; потому что болезнь - о ней лучше не думать. А сейчас еще ветер ворвался в окно, издевается надо мной).
Комната постепенно погружается в темноту; еще полчаса.
Размытые силуэты барок на море: их шесть (в том месте, где бьют холодные ключи!), вместительные грузовые посудины с серебряными парусами. Мне бы увидеть кого из капитанов, уговорить отправиться на север, и в путь, нахлобучу на голову ветер, как войлочную шляпу.
Еще пятнадцать минут.
В плену я с самого детства: неотесанные родители, чьи мечты никогда не подымались выше приличной обстановки для гостиной и одежды "как у всех"; вусмерть изработавшиеся, известково-серые учителя; бедность окружала меня, как неструганый дощатый забор; потом полурабская служба в Грифиевой костедробилке; потом много лет принудительная солдатская лямка и безумие массилийской войны; потом побег с переодеванием к финикийцам, вечная угроза, что примут за шпиона и убьют, каторжный матросский труд: день-деньской гнешь спину и все-таки (ты ведь ученый!) украдкой бросаешь ненасытные взгляды на проплывающий мимо берег Британики - а пустотелая деревяшка выгибает бока. Как мыслитель неизвестен или презираем; хор греческих философов обозвал меня "Филопсевдесом"; жизнь стесненного в средствах частного лица; а потом в довершение всего эти последние пятьдесят два года: "Попробуйте сами жить ради Истины! Вы обязательно будете вознаграждены!" Все, пора: давай, сталь, вгрызайся в железный брус!
Как молоток
стукнулся подбородок о тощую грудь: прут наконец прогрызен. Я тут же рухнул на стол бесчувственной грудой костей, замотанных в грубую холстину; только голова, сама по себе, все еще парила, коварная и неутомимая, над столешницей (я видел, так покачиваются головы гадюк - малейший шорох, и старые змеи просыпаются); потом опустилась и она, покрытый снегом спящий вулкан: с быстротой молнии полетел Пифей, юноша, в горячечный сон!
Опередить преследователей. Через высокие гулкие залы устремились они в погоню. Стены красного мрамора с матово-желтыми прожилками, без видимых зазоров между плит; часто расставленные группами по нескольку штук вазы в рост человека, тулова которых оплетены спускающимися из горловин вьюнками; статуи обращали ко мне свои высокомерные обезьяньи морды; крылатые быки с подстриженными клинописными бородами и ассирийскими ликами; на круглых лбах, мнилось, начертаны тайные письмена, но знак мне дарован не был. Только задев треножник и услышав звон, я заметил, что сжимаю в руке стальной ключ в форме иероглифа "анх"; выхватил из-за пазухи потемневший ломкий папирус и на бегу прочел осыпающиеся, ветхие золотые буквы: впереди, через одну залу, меня уже караулило охочее до крови карфагенское отродье. Я откинул раздувшиеся занавеси (они прикрывали пилястр), повернул четырехгранный стержень ключа в восьмой розетке лотосового фриза и проскользнул сквозь стену, которая милосердно расступилась: порфир снова беззвучно сомкнулся за моей спиной. Я задвинул железный засов и остановился перевести дух в узком, как трещина, проходе; круто вниз уходила мраморная лестница, шелковисто-серый тусклый свет беззвучно наполнял шахту. Я нашел в свитке новое указание и стал осторожно спускаться; после восьмидесяти трех ступеней "анх" опять отворил стену. С трудом я протиснулся в узкую дыру у самого пола, тщательно закрыл отверстие каменной пробкой и, заложив ее поперечным брусом, поднялся на ноги в залитом золотистым светом квадратном помещении. В стены были вделаны высокие плиты из камня мягких тонов, покрытые письменами на арамейском, халдейском, персидском... Иероглифы обращали ко мне соколиные свои головки, и, пораженный, я прочитал рядом с ними две светло-коричневые греческие строки: