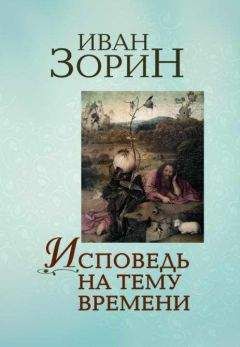Осаму Дадзай - Исповедь неполноценного человека
Уважение в школе я заработал не столько тем, что происхожу из богатой семьи, сколько благодаря своим способностям. С детства я был хвор и часто пропускал занятия - месяц, два, а то и чуть ли не весь учебный год; тем не менее, когда в конце года я приезжал на рикше в школу, чтобы сдать экзамены, оказывалось, что я едва ли не самый толковый ученик в классе. Да и когда посещал школу, совсем не занимался, на уроках рисовал карикатуры. Потом во время переменок показывал их, и ребята смеялись до упаду. Школьные сочинения у меня всегда получались потешными, учителя постоянно по этому поводу делали замечания, но я от своего не отступал. Я ведь знал, что они сами с удовольствием читают эти мои россказни, только вслух не признаются в этом.
Однажды я написал сочинение (по своему обыкновению в чрезвычайно грустных тонах), повествующее о том, как мать взяла меня с собой в Токио и в дороге я сходил по маленькому в плевательницу в проходе вагона. Отдал сочинение учителю, абсолютно уверенный, что оно его рассмешит, потом крадучись последовал за ним к дверям учительской. Еще в коридоре учитель достал из стопы мою тетрадку, раскрыл ее и начал хихикать. Потом я подглядел, как в учительской он, видимо закончив читать, громко расхохотался и стал показывать мою тетрадку другим учителям. Мне было ужасно приятно лишний раз удостовериться в своих предположениях.
Все-таки мне удалось прослыть просто потешным малым, и таким образом бежать уважения. В табеле по всем предметам стояло 10 баллов, и только по поведению то 6, то 7, что тоже вызывало в доме много смеха.
Однако же в сущности я был отнюдь не потешным малым. Совсем наоборот. В эти годы служанки и слуги обучили меня кое-каким гнусностям, целомудрия я лишился... Сейчас мне кажется, что, по отношению к ребенку из всех возможных злодеяний человеческих то, о чем я пишу - наибезобразнейшее, наинизчайшее и жесточайшее преступление. Но я сносил, я терпел. Так мне пришлось узнать еще одну сторону человеческого бытия, и я мог лишь бессильно смеяться над этим.
Если бы я привык говорить правду, то, очень может быть, безо всякой робости рассказал бы отцу с матерью, что сделали со мной слуги; но беда была еще и в том, что у меня с родителями не было полного взаимопонимания. На чью-либо помощь рассчитывать не риходилось. Обратись я к отцу ли, к матери, к полиции, к правительству - чего в конце концов добился бы? Все равно мнение сильных мира сего прижмет меня к стенке. И только.
Я прекрасно знаю о том, что в нашем мире существует несправедливость и тщетно взывать к людям; сам я никогда не говорил того, что думаю, постоянно скрывал свои мысли, и считал, что мне не остается ничего другого, как только продолжать паясничать.
"Ты что?! О каком неверии в человека ты говоришь? С каких пор ты рассуждаешь, как христианин?" - Не исключено, найдутся люди, которые могут меня так спросить, и не без насмешки. Но, по-моему, неверие людей совсем не увязывается с религией. Ведь и в самом деле, разве люди, включая и насмешников, не живут припеваючи без дум об Иегове или о ком другом, в атмосфере недоверия, в неверии друг к другу?
Вспоминается такой случай из детства. Однажды в наш городок приехала выступать знаменитость - член партии, в которой состоял отец. Вместе со слугами я пошел в театр слушать эту знаменитость. Зал был полон, то и дело встречались люди, с которыми отец был дружен. Знаменитому оратору все долго рукоплескали, а когда собрание закончилось и присутствовавшие небольшими группками стали расходиться, я, шагая ночью по заснеженной улице, слышал, как они в пух и прах разносили сегодняшнюю речь своего кумира. Среди тех, кто поносил собрание, были и близкие друзья отца. Его "друзья и единомышленники" сердито говорили, что и вступительное слово, которое произнес отец, никуда не годится, и речь знаменитого гостя - черт знает что такое... И они же, войдя к нам в дом, с сияющими физиономиями говорили отцу, что собрание прошло чрезвычайно успешно. Слуги - и те! - на вопрос матери: а как выступление гостя? - отвечали: замечательно, замечательно интересное выступление! И тут же, расходясь, говорили друг другу, что нет ничего тоскливее таких собраний.
Но это еще не самый яркий пример.
Все-таки удивительно, что, обманывая друг друга, никто из людей, как видно этим не мучается - обман стараются вовсе не заметить. А при этом жизнь человеческая дает нам уйму примеров недоверия, недоверчивости - примеров выпуклых, совершенно очевидных. Не могу я принять такой взаимный обман. Хотя сам-то, паясничая, с утра до ночи только тем и занимаюсь что всех обманываю... Добродетель - справедливость на уровне школьного учебника морали - не привлекает меня. Но понять людей, которые, явно обманывая, считают, что живут чисто, ясно, незамутненно - понять, принять этих людей я не в состоянии. Почему-то до сих пор люди не уяснили такие потрясающе простые истины. Да и сам я, если б удалось постичь их, вряд ли стал бы тщательно изучать людские повадки, вряд ли скатился до того обхождения, которым я людей пользую. И не пришлось бы мне противопоставлять себя законам человеческой жизни, переживать ночами муки поистине адские. Вот ведь о ненавистном злодеянии слуг и служанок я никому не пожаловался не потому, что не верю в людей, и, конечно, не из-за христианской догмы, а потому, что люди плотно закрыли створки доверия передо мной, маленьким человеком по имени Ёдзо. Да, я думаю именно так. Даже отец с матерью - и те - бывало, демонстрировали, насколько я недосягаем для их понимания.
И то, что я не из тех, кто, пользуясь доверием людей, станет искать у них помощи, в первую очередь особым чутьем поняли многие женщины; они учуяли мое одиночество, и это позволяло им пользоваться мною как заблагорассудится. То есть, я просто хочу сказать, что женщины видели во мне человека, способного сохранять любовные тайны.
* Натто - масса из перебродивших соевых бобов.
** Ё-чян - уменьшительно-ласкательная форма имени Ёдзо.
*** Эпоха Эдо - ХУШ-XIX вв.
ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ
На берегу моря, у самой воды, там, где в прибой докатываются волны, чернеют стволы и голые ветки высоких вишен. Их более двадцати. К началу учебного года* появляются коричневатые клейкие листочки, распускаются прелестные цветы; на фоне лазурного моря - красота поразительная! Влекомые ветром, цветы вскоре опадают, уносятся в море и, словно инкрустация, покрывают его поверхность, качаются на волнах, но затем море возвращает их на берег, к деревьям. Вот такое место - двор нашей гимназии, куда я поступил совершенно спокойно, без сколько-нибудь должной подготовки. Цветы сакуры на кокарде форменной фуражки и на пуговицах моей новой гимназической формы восходят к тем самым деревьям на берегу моря.
Дом, где я жил, да еще дом каких-то дальних родственников располагались совсем рядом с гимназией, чем, по-видимому, и руководствовался отец, определяя меня в это заведение. На занятия я выбегал по сигналу на утреннюю линейку; и вообще был я ленивым учеником. Но опять все то же мое постоянное паясничество вскоре сделало меня любимцем класса.
Первый раз в жизни я зажил практически отдельно от родителей, и мое новое место показалось мне куда более приятным, нежели родной дом. Клоунада давалась мне уже не столь тяжко, как раньше - возможно потому, что я кое-чего добился в этом искусстве. Хотя нет, дело, пожалуй, не в этом: будь ты и семи пядей во лбу, даже сыном божьим Иисусом - огромное значение имеет, где, перед кем ты играешь: одно дело - в родном доме, и совсем другое - в чужом краю. Самое трудное для актера - выступать перед родными; когда все семейство вместе - тут и великому актеру не до игры будет. Разве не так? А я имел мужество играть. И притом достаточно успешно. А перед чужими сумеет сыграть любой меланхолик.
Боязнь людей угнетала меня не менее, чем прежде, но при этом мастерство росло, я вечно смешил класс, хохотали и учителя, правда, прикрывая рот рукой и сетуя: "Без Ооба (это моя фамилия) был бы прекрасный класс..." Мне удавалось рассмешить даже прикомандированного к нам офицера с громоподобным голосом.
И вот в тот самый момент, когда, как мне казалось, я смог надежно скрыть свое нутро, - в этот момент совершенно неожиданно я получил, что называется удар в спину. И нанес мне его, как водится, почти идиот, самый немощный в классе парень с бледным одутловатым лицом; он всегда ходил в пиджаке явно с плеча отца или старшего брата - рукава были длиннющими, как в одеянии Сетоку Дайси**. В учении он был плох, как и в занятиях военным делом и физкультурой, на которых он всегда был просто зрителем. Стало быть, мне следовало остерегаться даже таких гимназистов.
В тот памятный день на уроке физкультуры этот гимназист (фамилии его не помню, а звали Такэичи), как обычно, глазел по сторонам, а мне велели упражняться на перекладине. Я подошел к ней, состроил самое невинное лицо, на какое только был способен, нацелился и с воплем совершил прыжок в длину, шлепнувшись задом в песок. Это оказалось явной оплошностью. Все, конечно, засмеялись. Я, улыбаясь встал, начал вытряхивать из штанов песок, и тут подходит ко мне Такэичи (как его угораздило в это время быть у перекладины?), толкнув меня в спину, тихо говорит: