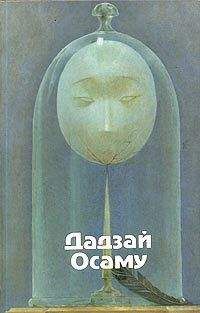Осаму Дадзай - Исповедь «неплноценного» чловека

Обзор книги Осаму Дадзай - Исповедь «неплноценного» чловека
Предисловие
Я видел три его фотографии. На одной ему лет десять. Мальчик в полосатом хаками из грубого холста снят в саду на фоне пруда в окружении многочисленных сестер (наверное, и родных, и двоюродных); голову сильно склонил влево и состроил уродливую гримасу, нечто наподобие кривой улыбки. Я назвал гримасу уродливой, хотя неразборчивые люди, то есть те, кому безразлично, что красиво, а что безобразно, взглянув на фотографию, скажут, может быть: «Какой милый мальчик», и это не будет просто любезностью, потому что в улыбке все же есть и то, что обычно определяется словом «милый». Но люди, хоть в какой-то мере знающие толк в красоте, скорее всего пробурчат: «Неприятный ребенок» — и, пожалуй, отшвырнут фотографию, словно гусеницу держали в руках.
И в самом деле: чем дольше смотришь на этого улыбающегося мальчика, тем неприятнее становится... Так ведь это и не улыбка. Мальчик вовсе не улыбается. Взгляните внимательнее: кулачки его сжаты. А улыбающийся человек не может сжимать кулаки. Обезьяна. Обезьянья мордочка с гримасой, похожей на улыбку. Иллюзию улыбки просто создают безобразные морщины. «Состарившийся малыш» — вот что хочется сказать об этом ребенке. Снимок производит странное впечатление, что-то есть в мальчике омерзительное, даже вызывающее тошноту. Никогда не доводилось мне видеть ребенка с таким противным лицом.
Второй снимок тоже поражает: можно ли так измениться? Здесь он уже студент, может быть, гимназист — трудно сказать наверняка,— но сразу бросается в глаза, что он стал значительно симпатичнее. И опять-таки, как это ни странно, на этой фотографии он какой-то неживой. На нем студенческая (или гимназическая) форма, из нагрудного кармана выглядывает белый платочек; он сидит в плетеном кресле, положив ногу на ногу, и снова улыбается. Только теперь это уже не обезьянья гримаса — его улыбку можно даже назвать изысканной. И все же что-то отличает ее от обычной человеческой улыбки. Не чувствуется в юноше полнокровия, что ли, вкуса к жизни, начисто отсутствует в нем ощущение себя в реальном бытии; легкость даже не птички, а перышка, листа бумаги — вот что внушала его улыбка. Он весь был какой-то искусственный. Большой оригинал? Да вроде нет. И не лицемер. И не изнеженное создание. Ну и, конечно же, не пижон. Вглядевшись в это лицо внимательно, можно разглядеть что-то неприятное, что-то от оборотня или привидения. Никогда я не видел юношей с таким странным, хотя и красивым, лицом.
И, наконец, третий фотоснимок, самый удивительный. Возраст определить совершенно невозможно. Голова седая. Он сидит в углу грязной комнаты (на фотографии отчетливо видны рваные в трех местах обои), греет руки над маленьким хибати. Теперь он уже не улыбается. И вообще лицо ничего не выражает. Впечатление такое, будто человек, грея над жаровней руки, медленно-медленно угасает. Чем-то зловещим, большим несчастьем веет от этого снимка. Но было в нем еще что-то загадочное, поразившее меня. Лицо снято крупным планом, я мог внимательно изучить его — самый обыкновенный лоб, ничего особенного в морщинах, бровях, глазах, обыкновенный нос, рот, подбородок... Ах, вот в чем дело: это лицо не только безжизненно, оно бесприметно, оно совершенно не оставляет следа в памяти. Вот только что я взглянул на фотографию, зажмуриваю глаза — и ничего не могу вспомнить. Припоминаю стены, маленькую жаровню, но не могу восстановить в памяти черты человека, находящегося внутри этих стен. Портрет с такого лица не напишешь. И шарж не придумаешь. Открываю глаза, смотрю снова — нет, ничего не отложилось в голове, лицо никак не вспоминается; от этого становится ужасно неприятно, появляется раздражение и хочется быстрее отвести взгляд.
Печать ли смерти, либо что-то другое вместо обычного человеческого выражения лица производило гнетущее впечатление. (Попробуйте представить себе прикрепленную к телу человека морду вьючной лошади.) Во всяком случае, было в этом человеке нечто, из-за чего невольно вздрагивал каждый глядевший на фотографию, омерзение вызывала она у всех.
Тетрадь первая
Вся моя жизнь состояла сплошь из позора. Да, впрочем, я так и не смог уяснить, что это такое — человеческая жизнь?.. Я родился на северо-востоке страны в деревне. Уже взрослым впервые увидел поезд. Железнодорожные эстакады казались мне аттракционами, по замысловатой прихоти выстроенными на заграничный манер; и хотя я не раз ими пользовался, никак не мог свыкнуться с мыслью, что они нужны всего лишь для безопасного перехода через пути. Не единожды поднимаясь на эстакаду, спускаясь с нее, я воспринимал это как изысканное развлечение, мне казалось, что они составляют одну из самых приятных услуг, оказываемых железной дорогой, и когда позднее я открыл для себя, что эстакада — не более чем мост над путями, то есть строение исключительно утилитарного назначения, — интерес к ним совершенно пропал.
И еще помню, что как-то в детстве я увидел в одной книжке метро и тоже долго считал его не транспортом, созданным из практической необходимости, а увлекательным развлечением: разве не шик — кататься на поезде под землей?
Я был хилым ребенком, часто болел и, разглядывая в постели простыню, наволочку, пододеяльник, думал: до чего же у них скучная расцветка; годам к двадцати только я осознал практическую надобность таких вещей, и это меня очень поразило: я был буквально подавлен сухой расчетливостью людей.
Не знал я также, что такое голод. Нет, не в том дело, что я рос в семье, никогда не испытывавшей нужды, я имею в виду совсем не эту банальную ситуацию, а то, что мне совершенно неведомо было ощущение голода. Странно, но я не обращал никакого внимания на еду, даже если долго не было и крошки во рту. Помню, когда я учился в школе — в начальной, затем в средней, — возвращался с уроков, а вокруг меня носились: «Проголодался, наверное? Знаем-знаем, сами помним, как жутко хочется есть после школы. Может быть, хочешь сладенького натто? А бисквита не поешь? И хлеб тоже есть». И я, подхалим от рождения, бормочу, что проголодался, нехотя закидываю в рот десять фасолек, не испытывая при этом ничего похожего на голод.
Вообще-то я ем отнюдь не мало, но не припомню случая, когда бы ел оттого, что был голоден; ел то, что считал редкостью, лакомством. Когда меня угощают — ем много, едва ли не больше, чем могу. Но питаться дома в кругу семьи с детства было для меня самой тяжелой обязанностью.
От воспоминаний об обедах в нашем деревенском доме меня прошибает пот. Вот как это всегда выглядело. В два ряда стоят низенькие столики-подносы, и все — а нас в семье было десять человек — садятся друг против друга, каждый за свой столик, я, самый младший, сажусь за последний; в комнате сумрачно, все едят, не произнося ни слова. Если добавить еще, что в нашем доме сохранились старые порядки и пища всегда была одна и та же и о лакомствах, роскошной еде никто и не помышлял, то станет понятно, почему — чем дальше, тем больше — домашние трапезы внушали мне ужас. Когда я в полутемной комнате сидел за своим последним столиком и, дрожа от холода, запихивал в рот горсть риса, мозг сверлили вопросы: почему люди едят каждый день по три раза? почему с такими постными лицами? может быть, принятие пищи — это ритуал? и для совершения его все члены семьи всегда в одно и то же время три раза в день (!) вынуждены собираться в затемненной комнате, ровно расставлять столики и угрюмо есть, даже если им этого, возможно, не хочется? Мне даже приходила в голову мысль, что все это — моление обитающим в нашем доме духам.
«Если не будешь есть — умрешь»,— говорили мне, и, хотя я всегда воспринимал эту фразу просто как запугивание, она тем не менее всегда вызывала у меня беспокойство и страх. «Без пищи человек умирает, человек работает, чтобы есть. Надо, обязательно надо принимать пищу...» Ничего более недоступного разумению мне слышать не приходилось.
Из этого следовало, что я ничего не смыслю в предназначении человека. Мое понимание счастья шло вразрез с тем, как понимают его другие люди, и это становилось источником беспокойства, которое не давало мне спать ночами, сводило меня с ума. Так все-таки, каково же мне: счастлив я? или нет? Часто, еще с детства, люди называли меня счастливчиком, мне же, наоборот, казалось, что как раз их жизнь куда благополучнее, притом что моя — просто адская.
Иногда я даже так думал: испытай ближние хотя бы одну из моих бед, эта единственная скосила бы их.
Для меня всегда было невозможным представить себе, что и в какой степени доставляет ближним страдания. Может, и в самом деле реально только то страдание, которое разрешается простым наполнением желудка? Быть может, это и есть самая ужасная, адская мука? И она не уступает тем десяти, которые испепеляют мою душу? Тогда почему никто собственноручно не обрывает свою жизнь, не сходит с ума? Люди болтают о политике, судачат о том о сем, не ведая отчаяния, они способны стойко бороться с разными невзгодами... Так, может быть, им не столь уж тяжко? Или же они — совершенные эгоисты, уверовавшие в свою непогрешимость, никогда и ничего не подвергающие сомнению? В таком случае им действительно легко жить. Но неужто все люди таковы? И все вполне довольны собой? — Не понимаю... Неужели все они ночью крепко спят и наутро встают бодрые? Какие сны им снятся? О чем они думают, когда идут по улице? О деньгах? Вряд ли. Вряд ли только о них. Мне приходилось слышать, что люди живут ради еды, но я не слышал еще, чтоб жили исключительно ради денег... Хотя всякое бывает. Нет, непонятно мне все это... Чем чаще я думал об этих вещах, тем меньше понимал и тем большее беспокойство терзало меня. И страх, что я один не такой, как все. Я не в силах общаться с себе подобными. Ну, о чем я должен с ними рассуждать? И как? Не знаю...