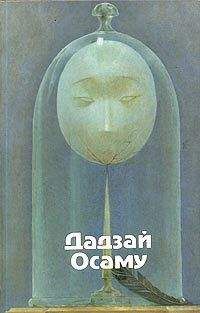Осаму Дадзай - Исповедь «неплноценного» чловека
В тот памятный день на уроке физкультуры этот кретин (фамилии не помню, а звали его Такэити), как обычно, глазел по сторонам, а мне велели упражняться на перекладине. Я подошел к ней, сделал невинное лицо, нацелился и с воплем совершил прыжок в длину, шлепнувшись задом в песок. То была явная оплошность. Все, конечно, засмеялись, я тоже, улыбаясь, встал, начал вытряхивать из штанов песок, и тут подходит ко мне Такэити (как его угораздило в это время быть у перекладины?) и, толкнув меня в спину, тихо говорит:
— Это ты нарочно. Нарочно.
Я был потрясен. И в мыслях не допускал, что какой-то Такэити — не кто-нибудь другой, а именно он — поймает меня. Мне показалось, что адское пламя охватило целиком весь мир; отчаянным усилием я удержался, чтобы не заорать, чтобы не обезуметь.
И после этого каждый день — тревоги, каждый день — страхи.
Внешне я по-прежнему оставался печальным паяцем, веселил всех вокруг, но иногда вдруг вырывался из груди тяжкий вздох; я стал опасаться, что отныне Такэити будет изобличать все, что бы я ни делал, да еще рассказывать всем направо и налево. При этой мысли на лбу у меня выступала испарина, пустым взглядом безумца я озирался по сторонам. Будь в моих силах — я бы, наверное, караулил Такэити и утром, и днем, и вечером, чтобы не дать ему раскрыть мою тайну. Я крутился вокруг него, пытался внушить ему, что тот прыжок на физкультуре я сделал не нарочно; я старался убедить его, что хочу с ним близко подружиться. Если все мои попытки окончатся безрезультатно, останется только желать его смерти. Вот о чем я неотступно думал. И все же о том, чтобы его убить, я и помыслить не смел. Не раз я мечтал быть убитым, но никогда не замышлял убить кого-нибудь. Да потому хотя бы, что это значило бы осчастливить ненавистного врага.
Дабы как-то приручить Такэити, я однажды, состроив христиански добросердечную физиономию, склонив голову влево на тридцать градусов и обняв его худые плечи, вкрадчивым, елейным голосом стал звать к себе в гости. Проделывать это пришлось не единожды — он всегда отмалчивался, рассеянно глядя на меня. И все же как-то раз после уроков мне удалось затащить его к себе.
Было это, кажется, в начале лета. Полил страшный ливень, и ребята не знали, как возвращаться из гимназии домой. Я же, поскольку жил рядом, собрался бежать, да вдруг у ящиков с обувью заметил уныло сгорбившуюся фигуру Такэити.
— Пошли, у меня есть зонт,— сказал я и потянул оробевшего Такэити за руку. Под проливным дождем мы побежали ко мне, попросили тетушку высушить нашу одежду, и я повел Такэити в свою комнату на втором этаже.
В семье, где я тогда жил, было три человека: тетка — ей перевалило за пятьдесят, ее старшая дочь лет тридцати — высокая болезненная женщина в очках (она когда-то была замужем, но почему-то вернулась к матери; как и все в доме, я называл ее Анессой), и была еще вторая дочь — Сэцуко, низенькая круглолицая девушка, совсем на свою сестру не похожая; она недавно закончила гимназию.
На первом этаже домика находилась лавка, где в небольшом количестве были выставлены для продажи канцелярские и спортивные товары, но основной доход семье давала не эта лавка, а сдававшийся внаем шестиквартирный дом, который до своей смерти успел выстроить покойный дядя.
Такэити остановился в дверях.
— Ухо болит, — говорит он.
— Под дождем побегал, вот и болит. — Я взглянул на его уши. Они жутко гноились, гной чуть ли не капал из ушной раковины.— Ну, это никуда не годится. Конечно, в таком состоянии уши будут болеть! — Я нарочито громко удивился. — Извини, что потащил тебя в такой дождь.
Ласково, почти по-женски попросив прощения, я сходил вниз за ватой и спиртом, потом положил голову Такэити себе на колени и стал промывать ему уши. Тот, кажется, не почувствовал никакой фальши.
— А тебя, наверное, бабы обожать будут, — не поднимая головы с моих колен, преподнес он мне дурацкий комплимент.
Такэити, конечно же, не осознавал, каким дьявольски страшным было его пророчество, в верности которого мне пришлось убеждаться не раз много лет спустя. «Обожать.. Быть обожаемым...» До чего же пошлые слова, что-то в них легковесное, самодовольное даже; стоит в любой торжественной ситуации прозвучать этим словам — и на глазах рушится величественный храм, наступает полная безучастность; а вот если выразиться по-другому — не «бремя обожания», а, скажем, «беспокойство от любви»,— то величественный храм останется непоколебленным. Странно, но я так чувствую.
Когда Такэити, пока я занимался его ушами, высказал мне эту чушь про «обожание», я ничего не ответил, но почувствовал, что покраснел: в его словах была доля истины. Вот я пишу, что пошлое «быть обожаемым» как будто прозвучало для меня лестно, и боюсь ложного впечатления о собственной глупости, примитивной даже для глупого молодого барчука — героя комических историй. В действительности я отнюдь не таков.
Женщины для меня намного загадочнее мужчин. Несмотря на то что с самого детства я рос в женском окружении — в нашей семье женщины составляли большинство, среди родственников было много двоюродных сестер, прибавим сюда и «преступниц» служанок, — несмотря на это, а возможно, именно поэтому я чувствовал себя среди них так, будто ступаю по тонкому льду. Было невообразимо тяжко. Порой, полностью растерявшись, я жестоко ошибался, что называется, наступал на хвост тигрице и отползал тяжело раненный, и раны, наносимые женщинами, — о, что по сравнению с ними плетка мужчины! — обильно кровоточили, были очень болезненны и с трудом поддавались излечению.
Женщины... Они то привлекают к себе, то отталкивают. Вдруг в присутствии людей обращаются с тобой крайне презрительно, совершенно бессердечно, но, когда рядом никого нет, крепко обнимают; спят они как мертвые, может быть, они и живут, чтобы спать? С самого детства у меня накопилось множество разнообразных наблюдений; вроде бы такие же люди, как мужчины, — и все же не совсем такие. Самое же интересное, что эти непознаваемые существа, с которыми всегда следует быть настороже, — эти существа благоволили ко мне. Да, именно благоволили, это слово наиболее верно отражает суть дела, а слова «любить», «быть любимым» в моем случае совершенно не годятся.
Важен еще один момент: женщины гораздо непринужденнее мужчин реагируют на клоунаду. Ну, во-первых, мужчины не смеются так много и весело, — вероятно, оттого, что я перед ними беспокоился, всегда переигрывал и к тому же нервничал, стремясь закончить фарс вовремя; а женщины не знают предела, они неугомонны и требуют продолжения, так что всякий раз, угождая им, я буквально выбивался из сил. Смеются они удивительно азартно. Да, что и говорить, уж коли женщина доберется до удовольствий, то отведает их сполна, не то, что мужчина.
Все это отличало и сестер из дома, где меня приютили в пору учебы в гимназии. Если у них случалась свободная минута, они — и та и другая — поднимались на второй этаж в мою комнатку, что каждый раз приводило меня в неописуемый ужас.
— Занимаешься?
— Да нет... — Захлопываю книгу и улыбаюсь.
— Ты знаешь, сегодня на географии учитель — Комбо его фамилия,— он...— И льются, льются слова, пустячные истории — ни уму, ни сердцу.
Как-то раз пришли вечером ко мне сразу обе сестрицы — Сэцуко (младшая) и Анесса (старшая) и после долгого спектакля, который мне перед ними пришлось разыгрывать, сказали вдруг:
— Ё-тян, примерь-ка очки.
— Зачем?
— Примерь, тебе говорят. Возьми у Анессы. — Сэцуко имела обыкновение говорить со мной грубовато.
Паяц послушно надел очки. Сестрицы хохотали буквально до упаду.
— Ну вылитый Ллойд! Ну как две капли воды!
(В это время среди японцев был очень популярен комедийный киноактер Гарольд Ллойд.)
Я встал в позу, выбросил вперед руку и начал «изрекать» приветствие:
— Господа! Мне доставляет огромную радость возможность приветствовать здесь моих японских почитателей...
Девицы давились от смеха.
А я после этого случая не пропускал ни одного фильма с участием Ллойда, изучал его манеру держаться, говорить.
Однажды осенним вечером, когда я лежал и читал книгу, в комнатку стремительно влетела Анесса, вся зареванная, и бросилась на мою постель:
— Ё-тян, помоги мне, ведь ты поможешь, да? Уйдем из этого дома, вместе уйдем, помоги мне, спаси меня.
Она долго всхлипывала, говорила что-то, но меня все это особенно не трогало: уже не впервые бабы льют передо мною слезы; страстные речи Анессы не столько испугали меня, сколько пробудили любопытство. Я вылез из-под одеяла, взял со стола хурму, снял кожицу, разрезал плод и протянул Анессе кусочек. Всхлипывая, она его съела. А потом спросила:
— У тебя есть что-нибудь интересное почитать?
Я взял роман Нацумэ Сосэки «Ваш покорный слуга кот».
— Спасибо. — Конфузливо улыбаясь, Анесса взяла книгу и вышла из комнаты.