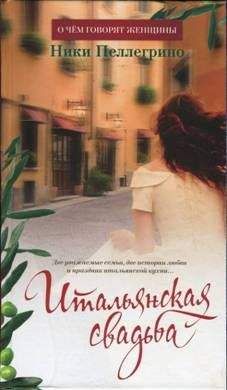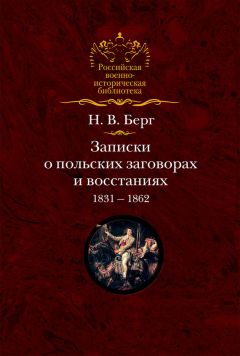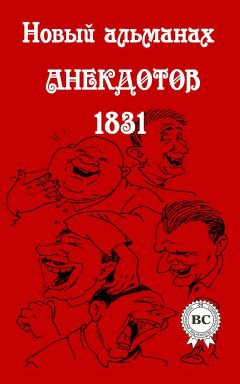Гор Видал - 1876
— Но даже это они напечатали шиворот-навыворот. К тому же наряды никогда особенно не волновали императрицу. Она будет вне себя.
— Сомневаюсь, чтобы «Леджер» проникал в такую дыру, как Чизлхерст.
— Можешь не сомневаться. Ты знаешь императрицу. Она не пропускает о себе ни строчки.
— Не отчаивайся. И будем надеяться, что, пока я жив, то есть в ближайшие несколько недель, реставрации монархии не произойдет.
— Не надо таких шуток, папа, — в голосе моей дочери звучала неподдельная тревога.
Хотя я не так уж сильно страдал от необъяснимого недуга, внезапно приковавшего меня к постели, я теперь знаю, как это легко — не вернуться из сонного небытия, и потому решил как можно скорее выдать Эмму замуж.
Явился Джон, его заботливость умиляет. Если бы только он не повергал меня в такое уныние.
— Вы в отличной форме, сэр.
— В ней я и намерен пребывать.
— Все читают вашу статью в «Леджере».
— С неодобрением? Я ведь знаю, какого мнения о Париже ваша матушка.
— Но есть еще сестра Вера. Она просто упивается всеми подробностями парижской жизни.
Разговор некоторое время был чисто эпгаровским, затем Джон и Эмма ушли, а я принялся за работу над Кавуром — это эссе заказано мне Годкином из «Нейшн». Платит он очень мало, но после довольно-таки — почему довольно-таки? чрезвычайно! — вульгарной чепухи про императрицу я должен напомнить себе (и нескольким серьезным читателям в этой стране, которые восторгались «Парижем под Коммуной»), что у меня еще сохранились кое-какие мозги.
Я напряженно трудился в постели, пока мне не подали легкий завтрак, а также очередную почту, в том числе пакет политической информации от Джейми. Никто не знает, что я в самом деле болен. Эмма говорит всем, будто на меня действует погода — туманная фраза, без сомнения из лексикона морских путешествий.
Гилдер прислал мне несколько книг, которые, на его взгляд, я должен прочитать. Новый роман Марка Твена о мальчике из маленького городка на Миссисипи. Не думаю, чтобы приключения какого-то мальчика могли привлечь мое внимание. Скорее, книга эта должна заинтересовать Уильяма де ла Туш Клэнси. Полистав ее, я наткнулся на множество милых шуток, без сомнения опробованных автором по время публичных выступлений. Если уж говорить о грубой речи западной границы, то я предпочитаю романы Эдварда Иглстона, особенно «Гусыню-учительницу». Хотя Иглстон и священник, но он, по-видимому, недолюбливает христианство, по крайней мере в его евангелических проявлениях, приспособленных к нравам Дикого Запада; его я читаю так же легко, как и Бальзака. Меня восхитил еще один автор, по имени Дефорест; издательский же мир, конечно, считает его романы отвратительными. Гилдер не отказывает ему в таланте, но, говорит он, «романы пишутся для дам, а его книги чересчур грубы, слишком приближены к убожеству жизни, в них слишком много политики». Иными словами, они чересчур подлинны и занимательны.
Любопытная вещь, эти нынешние «эстетические» споры между писателями-романтиками, с одной стороны, и реалистами — с другой. Обе школы не производят ничего, кроме романтических лжеэффектов. Американские реалисты полагают, что, описывая, скажем, фабрику, надо быть правдивым и близким к жизни, и они, разумеется, правы. Но когда дело доходит до изображения мужчин и женщин на этих фабриках, до их взаимоотношений, особенно во время работы, в семейной жизни, наши реалисты сразу же превращаются в стопроцентных романтиков, неотличимых от бесчисленных и бойких популярных писательниц, в том числе, если обратить свой взор на высочайшую вершину — эту таинственную литературную даму из Новой Англии, скрытую вуалью, — Натаниела Готорна, который, столкнувшись лицом к лицу с любой правдой о нашей жизни, срочно вызывает привидения, которые бродят по домам в ночи, когда серебристые облака скрывают восхитительную, похожую на череп, но, увы, абсолютно выдуманную луну.
При случае я мог бы написать что-нибудь о французских реалистах, которых тут почти совсем не знают. Хоуэлле из «Атлантик» готов это печатать, он сам писал о Тургеневе. Но когда читаешь его собственную легкую дамоугодную прозу, то поражаешься, как при всем своем уме он умудряется быть полной противоположностью тому, что вызывает его восхищение. Я несколько раз упоминал «Воспитание чувств» Флобера как пример идеального изображения человеческой жизни во всей ее неподдельности — этого чаще всего неразличимого потока времени, в котором автор умеет высветить каждый водоворот, — в отличие от дурацких шуточек Марка Твена или мелодраматической романтики Готорна. Я имею в виду, в частности, последнюю книгу Готорна, где некое существо на римских катакомбах встречает современного фавна, которого, конечно, следует уничтожить, поскольку дух Новой Англии требует, чтобы все естественное было изломано, изгнано — даже в озаренных лунным светом сновидениях.
Но для одного утра литературной критики более чем достаточно. У меня нет ни малейшего желания наставлять гордых американских писателей на путь истинный; каждый из них убежден, что их национальная литература выше всяких похвал, однако с нетерпением ждет, когда из Лондона прибудет очередная партия книжных новинок.
А теперь — за Кавура. Иногда надо и потрудиться.
2
В гостиничной конюшне мы наняли изящную карету с ливрейным возницей — отвезти нас к Асторам и забрать обратно в полночь.
— В это время вы должны будете уйти от миссис Астор, — объяснил нам привратник, устраивающий подобные услуги; он старался не выдать своих чувств, отправляя двух постояльцев отеля на самую вершину Парнаса (не уверен, что я выбрал для сравнения нужную гору). Не без удовольствия он продемонстрировал нам свою причастность к сильным мира сего: он точно знал, кто будет, а кого не будет на вершине, точное время, когда мы сядем за обеденный стол (восемь часов вечера), и кого позовут на помощь шеф-повару, если гостей окажется слишком много.
Эмма выглядела так, словно мгновение назад сошла с портрета Винтергальтера в Шёнбруне: скорее императрица Виттельсбах, чем графиня Монтихо. На ней были д’агрижентские бриллианты, копия, столь искусно выполненная из страза, что лишь ювелир с увеличительным стеклом мог определить, что они не настоящие. Я не без удовольствия заметил, что в результате загадочной болезни я несколько похудел, и в общем мы представляли собой выдающуюся пару.
Сначала я опасался, что мы не узнаем, какой из двух совершенно одинаковых асторовских домов принадлежит нашей мадам Астор, но, как сказала Эмма, если бы сводные сестры решили устроить прием в один и тот же вечер, Пятая авеню оказалась бы полностью запруженной. Кстати, когда я выразил надежду, что она не будет скучать от провинциализма американского высшего общества, Эмма решительно замотала головой.
— Какая там скука, папа. О чем ты? Большие деньги… они похожи на яркие лучи электрического света в этих ужасных залах и безумно меня волнуют. Я просто трепещу! Эти твои богачи светятся, точно северное сияние. — Иногда Эмма выражается удивительно беллетристично, несмотря на свой довольно-таки вульгарный литературный вкус.
Когда асторовский лакей — темно-зеленая плюшевая накидка, золотые гербовые пуговицы, красная куртка, бриджи и черные шелковые чулки — помогал нам вылезти из кареты, за нами наблюдала небольшая толпа, несмотря на то что на улице шел снег. От ступенек парадной двери дома номер триста пятьдесят по Пятой авеню через тротуар был небрежно переброшен исчезающий в сточной канаве красный ковер. Мы поспешили войти.
Некто, похожий на придворного церемониймейстера, указывал дамам, как пройти в комнату, чтобы привести в порядок себя и свои туалеты, мужчинам — в гардеробную. Затем, завершив положенные приготовления, мы с Эммой торжественно направились по длинному коридору к широкой лестнице. Внутри дом кажется крупнее и внушительнее, чем можно предположить по его уличному фасаду, похожему на тонкий ломтик шоколадного торта.
Мы прошли через анфиладу гостиных (две голубые и одна гранатовая) — совсем как в Тюильри. Я был поражен богатством, да и неплохим вкусом меблировки, хотя картины не слишком хороши, а скульптуры невыразительны. Свет, исходивший от роскошных хрустальных люстр, таинственно отражался в многочисленных серебряных зеркалах, и всюду были свежие цветы — розы, орхидеи и еще какие-то экзотические, названий которых я не знаю, — не говоря уже о целой оранжерее сразу за третьей гостиной. Вот истинная роскошь — собственные тропические джунгли посреди морозной нью-йоркской зимы.
Миссис Уильям Бэкхаус Астор, née[34] Каролина Скермерхорн, она же Таинственная Роза, стояла под огромным и весьма неважным собственным портретом и встречала гостей. Рядом с ней, и, уж конечно, в своей стихии, пребывал Уорд Макаллистер, рабски преданный таинствам своей изрядно-таки распустившейся розы. Миссис Астор немолода (сорок, сорок пять?), и ее неживые черные волосы не вполне ее собственные, в то время как прочие части тела, украшенные искрящимися алмазными подвесками, жемчугами, сияющими лунным светом, изумрудными кулонами, которым позавидовал бы сам Великий Могол, без сомнения, принадлежат ей самой («принадлежат» — этот глагол относится к частям тела, поясняю для тех, кто запутался в длиннющих эпитетах к драгоценным камням, которые сами собой вьются на кончике пера; эти драгоценные камни висят, ниспадают, раскачиваются и сверкают не только на высокой и неестественно прямой фигуре миссис Астор, но и на всех других присутствующих дамах).