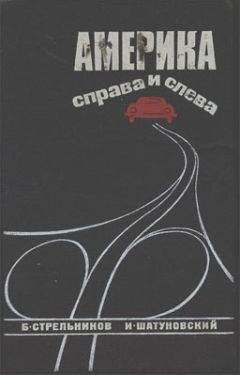Антуан де Сент-Экзюпери - Маленький принц. Цитадель (сборник)
– Смотри, – сказал мне отец, – он больше не зевает. Он разучился скучать, скука – тоже тоска по людям.
XXVII
Я понял, что все несчастны. Ночь – вот корабль, на который Господь посадил всех странников, не дав им корм чего. И я решил объединить людей. Но сперва решил понять, что же такое счастье.
Я ударил в колокол. «Придите ко мне, счастливые», – позвал я. Счастливый подобен зрелому плоду, источающему сок и сладость. Я видел – женщины, наклонившись вперед, прижимают руки к груди, боясь расплескать полноту счастья. И пришли счастливые и встали по правую мою руку.
«Придите, несчастные!» – позвал я и ударил в колокол для несчастных. «Встаньте от меня по левую руку», – сказал я им.
И, разделив всех, я задумался: «Что же такое несчастье?»
Я не верю в арифметику. Не перемножишь горе на радость. Если среди моего народа страдает один-единственный человек, мука его так велика, как если бы мучился весь народ. Плохо и то, что, мучаясь, человек забывает о царстве.
А радость? Когда замуж выходит принцесса, танцует и пляшет весь народ. Дерево потратило себя, и распустился бутон. Дерево – это каждая из его веточек, по ним я и сужу о дереве.
XXVIII
Слишком просторным показалось мне одиночество. Тишины и неспешности искал я для моего народа, и вот напился простором души и горней тоской до горечи. А внизу я видел огни вечернего города. Город звал сбиться всех потеснее, запереть двери, прижаться друг к другу. Так все и поступали, а я – я смотрел, как одно за другим гаснут окна, и за каждым из них угадывал любовь. А потом тоску и разочарованье, если любовь не становилась большим, чем просто любовь…
Свет в окне говорил о болезни. Два-три неизлечимо больных – негасимые свечи в ночи. А вот и еще одна мерцающая внизу звездочка – кто-то творит, единоборствуя с неподатливой глиной, он не уснет, пока не вплетет в венок еще одного бессмертника. Несколько окон зажжены безнадежной мукой ожидания. Господь и сегодня собрал свою жатву, кому-то никогда уже не возвратиться домой.
Но были в моем городе и те, кто не спал и бдением своим противостоял опасностям ночи – так бдит дозорный в открытом море. «Это блюстители, – сказал я, – они блюдут жизнь перед лицом непроницаемой стихии. Они на переднем крае, на пограничье. Нас мало, бдящих в ночи над спящими, с нами беседуют звезды. Нас мало, стойких, мы положились на произвол Господень. Нас мало среди мирных городских жителей, на наших плечах тяжесть города, нас обжигает ветер, упавший со звезд, словно ледяной плащ».
Капитаны, друзья мои, тяжка необъятная ночь. Спящим неведомо, что жизнь – это нескончаемые перемены, напряжение до стона древесины и мука преображения. Нас мало, мы за всех несем общий груз понимания, мы на пограничье, нас обожгла боль, и мы выгребаем к восходу, мы – дозорные на вахте, застывшие в ожидании ответа на немой вопрос, мы из тех, кто не устает верить, что любимая возвратится…
И я понял, что усердие и тоска сродни друг другу. Их питает одно и то же. Бескрайность – их пространство, бесконечность времени – их пища.
– Пусть бдят со мной лишь тоскующие и усердные, – сказал я. – Остальные пусть спят. Они трудятся днем, и не их призвание – пограничье…
Этой ночью город не спал, он лишился сна из-за человека, который на заре искупит смертью свое преступление. Город верил, что он невиновен. Улицы обходила стража, следя, чтобы люди не собирались вместе, но людей будто что-то выталкивало из дома и притягивало друг к другу как магнитом.
А я? Я думал: «Один мученик разжег пожар. Тюремный узник реет над целым городом, словно знамя».
И мне захотелось посмотреть на него. Я направился к тюрьме – глухим квадратом чернела она на звездном небе. Стражники отомкнули мне ворота, и, заскрипев, они медленно повернулись на петлях. Толстые стены, зарешеченные окна – тяжело от них. Черные стражники сторожили дворы и коридоры, возникая на моем пути, словно хищные ночные птицы… Всюду спертый воздух, всюду глухое эхо подземелья, вторящее шагам по плитам, звону оброненного ключа. Я подумал: «Для чего воздвигать эту громадину, стремясь придавить человека, он так слаб, так уязвим – гвоздя довольно, чтобы лишить его жизни. Неужели же преступник так опасен?»
Все ноги, чьи шаги я слышал, топтали узника. Все стены, все двери, все столбы давили на него. «Он – душа тюрьмы, – сказал я себе, размышляя об узнике. – Он ее смысл, суть и оправдание. И он же – кучка тряпья, сваленная за решеткой, возможно, он спит и похрапывает во сне. Но каким бы он ни был, он взбудоражил весь город. Вот он отвернулся от одной стены, повернулся к другой, и произошло землетрясение».
Мне приоткрыли глазок, я стал смотреть на узника. Я знал, что мне есть над чем поразмыслить. Я долго смотрел на него, пока наконец его не увидел. А увидев, подумал: «Наверное, ему не в чем себя упрекнуть, кроме как в своей любви к людям. Каждый зодчий строит свою крепость по-своему. Все способы хороши. Но не все вместе. Потому что тогда не построить крепости».
Лицо, изваянное в мраморе, отвергло множество других возможностей. Каждая была прекрасна. Но не все вместе. Я не сомневаюсь, мечта узника была не хуже моей.
Он и я – на вершине горы. Я один, и он тоже. Этой ночью мы поднялись с ним на вершину мира. Встретились, сошлись. Что делить нам на такой высоте? Как и мне, ему нужно только благо. Но умрет все-таки он.
Мне стало больно.
Прежде чем желание станет деянием, дерево – веткой, женщина – матерью, будет сделан выбор. Жизнь укрепляется несправедливостью выбора. В красавицу влюблены многие. Послушная жизни, она выберет одного и многих обречет на отчаяние. Сущему не до справедливости. И я понял – созидание прежде всего жестоко.
Я затворил дверь и долго шел коридорами. Меня переполняли восхищение и любовь. На что ему жизнь раба, когда он велик гордыней?
Я проходил мимо стражников, тюремщиков, подметальщиков, все они верно служили своему узнику. Толстые стены берегли его и обрели значимость, как обретают значимость руины замка, благодаря спрятанному в них сокровищу. Я еще раз обернулся и посмотрел на тюрьму.
Башня в зубчатой короне тянулась к звездам – сторожевой корабль шел с важным грузом… «Куда он его везет?» – спросил я у самого себя. А потом, когда я был уже далеко, в ночи раздался ружейный залп…
Я подумал о горожанах: «Они будут плакать о нем».
«Хорошо, что они будут плакать», – подумал я.
И еще подумал: «Он будет роптать, мой народ, размышлять, складывать песни. Они похоронят его. И не похоронят. Опущенное в землю дает всходы. Не мне противостоять жизни, и однажды он окажется правее меня. Я обрек его на позорную казнь. Придет день, и я услышу, как воспевают его смерть. Песню полюбит ищущий путь к тому, что мной отвергнуто. А я? Куда иду я?
Я иду к иерархии, но не такой, какая сложилась, – к иной. Благо покоя я хочу отличать от омертвения. Стремясь к покою, не хочу расправляться с противоречиями. Я должен вобрать их. Зная при этом, что одна сторона хороша, другая – нет. Не терплю, когда плохое и хорошее смешивают в одну кучу, сладкой кашкой питаются слабаки, поддерживая свое бессилие. Я принял моего врага, чтобы стать больше и сильнее него».
XXIX
Я задумался, разглядывая маску плясуньи, – ее лицо своенравной балованной упрямицы. «Во времена величия царства, – подумал я, – она выбрала себе такую маску. Теперь эта маска – крышка пустой коробки. В человеке исчезла страсть. Исчезли и пристрастия. Никто не хочет выстрадать своего. А если своего не выстрадать, то откуда ему взяться?»
Человек желал добиться. Добился. Но стал ли он счастливее? Счастье в служении желанному. Смотри, стебель трудится над цветком. Счастлив ли он, когда цветок распустился? Нет, наступил конец работы, растение приготовилось умереть.
Я знаю, что такое хотеть. Жаждать дела. Желать достигнуть, преуспеть. И отдохнуть. Но кто жив отдыхом? Отдых не питает нас. Не перепутайте: питающая среда и достигнутая цель – разное. Бегун бежал быстрее всех. Он победил. Но не получится жить победой. Не может моряк жить побежденной бурей. Побежденная буря – взмах руки в долгом-предолгом плавании. Следующий взмах неминуем. Радость трудиться над цветком, бороться с бурей, строить храм не похожа на радость сорвать цветок, вспоминать о буре, любоваться храмом. Надежда, что в старости насладишься тем, в чем отказывал себе всю жизнь, – иллюзия. Напрасно надеется воин, что в радость ему будет жизнь обывателя. Хотя на первый взгляд кажется, что воюет он за возможность им стать. Но вот он стал обывателем, и тоскует, и снова не прав.
Не прав тот, кто, тоскуя, твердит: «Человеческие желания неутолимы»… Он просто не знает, чего хочет. «Я иду по следам своего счастья, а оно никак не дается в руки», – жалуется он. Могло бы пожаловаться и дерево: как я трудилось над цветком, зачем он засох и стал семечком, которое зачем-то станет деревом, а на нем будут еще какие-то цветы?! Одолев бурю, ты отдыхаешь, но, пока ты отдыхаешь, собирается новая буря.