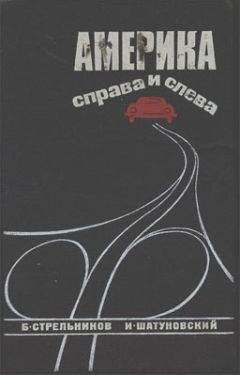Антуан де Сент-Экзюпери - Маленький принц. Цитадель (сборник)
Вот стихотворец, он прославился, сломав общепринятые правила синтаксиса. Шоковый эффект часто ведет к успеху. Но он – браконьер, из личной выгоды он разбил сосуд с общим достоянием. Ради самовыражения не пощадил возможности выражать себя каждому. Желая посветить себе, поджег лес и всем остальным оставил пепел. Нарушения войдут в привычку, я никого больше не изумлю неожиданностью. Но мне уже не воспользоваться благородной красотой утраченного стиля. Я сам обессмыслил его фигуры, прищур, умолчания, намеки – всю гамму условных знаков, которую так долго и так тщательно нарабатывали, научившись говорить с их помощью о самом тайном, самом сокровенном.
Я выразил себя тем, что сломал инструмент для самовыражения. Инструмент, который принадлежал всем.
Не люблю издевок, насмехаются всегда трутни. Нами правит правитель, мы относимся к нему почтительно, но, издеваясь, я сравнил его с ослом и поразил всех своей дерзостью. Пройдет время, и осел-правитель станет для всех привычной обыденностью, но такая очевидность совсем не смешна. Я разрушил иерархию, возможность подняться вверх, полезное честолюбие, представление о величии. Я растратил капитал, которым пользовался не я один. Ограбил житницу и зерна пустил на ветер. Я использовал величие правителя в своих целях и разрушил то, что создавали другие. Вот в чем мое предательство, мое преступление. Мне предоставили возможность выразить себя. Я выразил себя тем, что уничтожил такую возможность. И предал всех.
Поэт, который жестоко работает над собой, желая воспользоваться накопленным наследством, совершенствует инструмент, пользуясь им. Правитель, говорящий правду своему народу, несмотря на тягость ее и горечь, не растеряет союзников, ведя войну. Тот, кто заботится о возможностях роста для человека, готовит себе помощь, которая завтра сослужит ему службу.
XXV
Поэтому я созвал воспитателей и сказал им:
– Ваш долг не убить человека в маленьких людях, не превратить их в муравьев, обрекая на жизнь муравейника. Меня не заботит, насколько будет доволен человек. Меня заботит, сколько будет в нем человеческого. Не моя забота – счастье людей. Кто из людей будет счастлив – вот что меня заботит. А довольство сытых возле кормушки – скотское довольство – мне не интересно.
Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы – пустота, обогатите их образами и картинами, на которых видны связующие нити.
Не отягощайте детей мертвым грузом фактов, обучите их приемам и способам, которые помогут им постигать.
Не судите о способностях по легкости усвоения. Успешнее и дальше идет тот, кто мучительно преодолевает себя и препятствия. Любовь к познанию – вот главное мерило.
Не учите их, что польза – главное. Главное – возрастание в человеке человеческого. Честный и верный человек гладко выстругает и доску.
Научите их почтению, потому что насмехаться любят трутни, для них не существует целостной картины.
Боритесь против жадности к вещам. Они станут людьми, если вы научите их тратить себя, не жалея; если человек не тратит себя, он закостеневает.
Научите их размышлению и молитве, благодаря им расширяется душа. Научите не скудеть в любви. Чем заменишь любовь? Ничем. А любовь к самому себе – противоположность любви.
Карайте ложь и доносительство. Бывает, что и они помогают человеку и, на первый взгляд, в помощь царству. Но силу рождает только верность. Нельзя быть верным здесь и неверным там. Верный всегда верен. Нет верности в том, кто способен предать товарища, с которым вместе трудится. Мне нужно сильное царство, и я не собираюсь основывать его мощь на человеческом отребье.
Привейте им вкус к совершенству, ибо любое дело – это путь к Господу, и завершает его только смерть.
Не учите их, что главное – прощение и милосердие. Плохо понятые, обе эти добродетели обернутся потаканием нечисти и гниению. Научите их благому сотрудничеству – общему делу, где каждый в помощь благодаря другому. И тогда хирург поспешит через пустыню к человеку с разбитой коленкой. Потому что речь идет об исправности повозки. А вожатый у них один.
XXVI
Я задумался о великом таинстве изменения самого себя, о преображении. Жил когда-то в нашем городе прокаженный.
– Пойдем, я покажу тебе прорву, – сказал отец.
И он повел меня на окраину, где за домами виднелся голый замусоренный пустырь. Маленький домишко стоял посреди пустыря за забором, отгородившим прокаженного от остального мира.
– Ты, верно, думаешь, что он страдает? Присмотрись, он сидит на пороге и зевает. В нем умерла любовь, только и всего. Отверженность сгноила его, всего-навсего. Запомни, отверженность не терзает болью, она изнашивает тебя день за днем. В изгнании питаются снами и в кости играют понарошку. Да, он сыт, но что толку в сытости? Он – король царства теней.
Наше спасение в необходимости, – продолжал отец. – Что за игра в кости без денег? Что за жизнь в мечтах? Мечты не приносят счастья, они слишком податливы. Как безнадежен рой мечтаний, заполняющий пустоты юности. На пользу каждому все, что сопротивляется и противится. Не болезнь – беда прокаженного – податливость жизни. У него нет необходимости идти, он стал скотом возле кормушки.
Горожане приходили поглядеть на прокаженного. Окружив забор, они затаивали дыхание, словно заглядывали после тяжелого подъема в кратер вулкана. Они бледнели, словно уже услышали грозный гул в глубине земли. Жизнь за забором казалась им исполненной тайны. Но тайны в ней не было.
– Не тешь себя иллюзиями, – сказал отец, – не выдумывай прокаженному бессонных ночей, отчаяния и рук, заломленных в бессильной ярости против самого себя, Господа и всех людей на свете. Он – неучастие, и с каждым днем все дальше и дальше от нас. Что связывает его с людьми? Глаза ему затянула пелена гноя, бессильные руки повисли плетьми. Городской шум для него – шум проезжающей неведомо где телеги. Жизнь – не слишком понятное зрелище. А что такое зрелище, спектакль? Пустяк, он ничего не стоит. Живит только то, что переделывает тебя. Нельзя жить, превратившись в склад с мертвым грузом. Мог бы жить и прокаженный, подвози он на лошади камни для постройки храма. Но нет, этого снабдили всем.
Со временем вошло в обычай навещать прокаженного каждый день, сострадать ему и через забор, отгородивший его от мира, перекидывать ему приношения. Он стал божком, ему служили, его украшали и одевали, кормили лучшими яствами. В праздник чествовали музыкой. И все же он оставался нищим. Нуждался во всех, но никто не нуждался в нем. Все у него было, кроме того, чем он мог бы поделиться.
– Ты видел деревянных идолов, – сказал отец, – они тоже обвешаны дарами. Перед ними возжигают свечи, им кадят дымом жертвоприношений, украшают драгоценностями. Но поверь, преображаются и растут люди, жертвуя своему божеству золотые браслеты, драгоценные каменья, – деревянный идол пребывает деревом. Он не может переродиться. Дерево живет, преображая землю в цветы.
Я смотрел на прокаженного, он вышел из лачуги и обвел толпу незрячим, тусклым взглядом. Говор собравшейся толпы мог бы польстить ему, но для него он значил не больше дальнего шума волн. Он находился вне досягаемости. Нас ничего не связывало друг с другом. И если кто-то в толпе громко жалел его, взгляд прокаженного туманился презрением… Изгой. Его воротило от игры, где все понарошку. Что за жалость, если не берут на руки и не баюкают? Ведь по-настоящему он для нас не существовал. И когда в нем просыпался вдруг животный инстинкт, и он загорался яростью в раздражении на толпу, что глазела на него, как на ярмарочную забаву, – яростью, по существу поверхностной, ибо мы не были частью его жизни, как дети вокруг пруда, где едва шевелится одиночка карп, – его ярость не задевала нас. Бессильная ярость. Ярость не способная нанести удар, швыряющая на ветер пустоту слов. Мне показалось: взяв на себя его пропитание, мы его ограбили.
Я вспомнил прокаженных Юга, они взирали на оазис с высоты своего коня, с которого, по закону о проказе, не имели права спешиться. Они опускали вниз палку с плошкой и смотрели вокруг тяжелым равнодушным взглядом: счастливое лицо для них – лишняя возможность удачной охоты. Да и чем могло досадить им чужое счастье? Чуждое и далекое, вроде незаметной возни полевок на лугу. Вот они и смотрели вокруг тяжелым равнодушным взглядом. Тихим шагом подъезжали к лавчонке, опускали на веревке корзину и терпеливо ждали, пока лавочник захочет наполнить ее. Не по себе становилось от их тяжелого равнодушного терпенья. Неподвижно стояли они вдоль нашей улицы и были для нас лишь пристанищем страшной болезни, жадной, прожорливой печью, сжигающей человеческую плоть. Они были для нас тем, что стараешься миновать, – заброшенным пустырем, обителью зла. Но чего ждали они сами? Ничего. Ждут ведь не от себя, ждут от иного, чем ты. И чем скуднее твой язык, тем грубее и проще твоя связь с людьми, тем меньше знакомы тебе скука и томление ожидания. Так чего они могли ждать от нас, эти люди, ничем не связанные с нами? Они ничего от нас и не ждали.