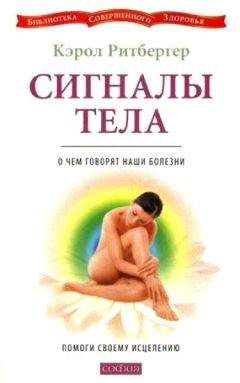Генрих Бёлль - Глазами клоуна
— Почему бы ему не послать мне цветы?
— Ты должна ставить вопрос иначе, — сказал я, — почему, собственно, он послал тебе цветы?
— Мы старые друзья, — сказала она, — может быть, он мой поклонник.
— Очень мило, — сказал я, — поклонник поклонником, но дарить такой большой букет дорогих цветов — значит навязываться. По-моему, это дурной вкус.
Она оскорбилась и вышла из комнаты.
Когда позвонил мальчик с молоком, мы сидели в столовой. Мария вышла, открыла ему дверь и дала деньги. В этой квартире к нам только раз пришел гость — Лео, и это случилось перед тем, как он обратился в католичество. Но Лео не звонил, он поднялся наверх вместе с Марией.
Звонок звучал странно: робко и, вместе с тем настойчиво. Я страшно испугался — неужели это Моника? Могло даже случиться, что ее под каким-нибудь предлогом послал Зоммервильд. Во мне сразу проснулся комплекс Нибелунгов. Я побежал в переднюю в насквозь мокрых шлепанцах и никак не мог найти кнопку, на которую надо нажать. Пока я искал ее, мне пришло в голову, что у Моники есть ключ от входной двери. Наконец я нашел кнопку, нажал на нее, и внизу тихо загудело, как гудит пчела на оконном стекле. Я вышел на площадку и встал у лифта. Сперва зажглась красная лампочка «занято», потом цифра «один», потом «два». Я с беспокойством уставился на шкалу и вдруг заметил, что рядом со мной кто-то стоит. В испуге я обернулся и увидел красивую женщину со светлыми волосами, худощавую, но в меру, с очень милыми светло-серыми глазами. Ее красная шляпка была, на мой вкус, слишком яркой. Я улыбнулся, она улыбнулась в ответ и сказала:
— Видимо, вы и есть господин Шнир... моя фамилия Гребсель, я ваша соседка. Очень рада наконец-то увидеть вас воочию.
— Я тоже рад, — сказал я, и это не были пустые слова: на госпожу Гребсель, несмотря на ее слишком яркую шляпку, было приятно смотреть. В руках у нее я заметил газету «Голос Бонна»; она проследила за моим взглядом и сказала покраснев:
— Не обращайте внимания.
— Я залеплю этому негодяю пощечину, — сказал я. — Если бы вы только знали, какой это лицемерный подонок... к тому же он обжулил меня на целую бутылку водки.
Она засмеялась.
— Мы с мужем будем рады наконец-то познакомиться с вами. Вы здесь еще побудете?
— Да, — сказал я, — я вам как-нибудь позвоню, если разрешите... у вас все — тоже цвета ржавчины?
— Ну, конечно, ведь цвет ржавчины — отличительная особенность пятого этажа»
Лифт немного задержался на третьем этаже, потом зажглась цифра «четыре», потом «пять», я распахнул дверцу и в изумлении отступил. Из лифта вышел отец; поддержав дверцу, ой пропустил в кабину госпожу Гребсель и повернулся ко мне.
— Боже мой, — сказал я, — отец. — Я никогда не называл его отцом, всегда говорил «папа».
— Ганс! — Он сделал неловкую попытку обнять меня.
Я вошел первым в квартиру, взял у него шляпу и пальто, открыл дверь столовой и показал рукой на тахту. Он неторопливо огляделся.
Оба мы чувствовали сильное смущение. Смущение, видимо, непременная предпосылка того, чтобы родители и дети вообще могли говорить друг с другом. Вероятно, мой возглас «отец» прозвучал крайне патетически, и это только усугубило наше смущение, и без того неизбежное. Отец сел в одно из кресел цвета ржавчины; взглянув на меня, он покачал головой: мои шлепанцы были насквозь мокрые, носки тоже промокли, а купальный халат был чересчур длинен и в довершение всего огненно-красного цвета.
Отец мой невысок ростом, изящен, и он настолько элегантен без всяких на то усилий, что деятели из телецентра буквально рвут его на части, когда проводятся диспуты по вопросам экономики. Он прямо-таки излучает доброжелательность и здравый смысл; немудрено, что за последние годы отец получил большую известность в качестве «звезды» телеэкрана, чем он приобрел бы за всю жизнь в качестве владельца угольного концерна. Все грубое ему ненавистно. По его внешности следует ожидать, что он курит сигары — не толстые, а легкие тонкие сигары; и то, что промышленный магнат, которому уже под семьдесят, курит сигареты, удивляет и наводит на мысль о непринужденности и демократичности. Я вполне понимаю, почему его суют во все диспуты, где речь идет о деньгах. Он не просто излучает доброжелательность, видно, что он и впрямь человек доброжелательный. Я протянул ему сигареты, дал прикурить, и, когда я при этом нагнулся, он сказал:
— Я не так уж хорошо разбираюсь в жизни клоунов, хотя кое-что знаю о ней. Но то, что они принимают кофейные ванны, для меня новость.
Отец может иной раз мило сострить.
— Я не принимаю кофейных ванн, отец, — сказал я, — я просто хотел налить себе кофе, и, как видишь, неудачно. — Сейчас я уж точно должен был назвать его «папой», но спохватился слишком поздно.
— Хочешь чего-нибудь выпить?
Он улыбнулся, недоверчиво посмотрел на меня и спросил:
— А что у тебя есть?
Я отправился на кухню: в холодильнике стоял початый коньяк, несколько бутылок минеральной воды, лимонад и бутылка красного вина. Я взял всего по бутылке, вернулся в столовую и расставил батарею бутылок на столе перед отцом. Он вынул из кармана очки и приступил к изучению этикеток. Покачав головой, он прежде всего отставил коньяк. Я знал, что он любит коньяк, и поэтому обиженно спросил:
— Кажется, это хорошая марка?
— Марка превосходная, — сказал он, — но самый лучший коньяк теряет свои качества, если его охладили.
— О боже, — сказал я, — разве коньяк не ставят в холодильник?
Он посмотрел на меня поверх очков с таким выражением, словно я только что был уличен в скотоложестве. На свой лад отец эстет: он способен за завтраком раза по три, по четыре возвращать на кухню хлеб, пока Анна не подсушит его ровно настолько, насколько он находит это нужным; это немое сражение разыгрывалось у нас каждое утро, ибо Анна считала подсушенный хлеб «глупой англосаксонской выдумкой».
— Коньяк в холодильнике, — сказал отец презрительно, — ты действительно не знаешь этого... или просто прикидываешься? Тебя вообще трудно понять.
— Нет, не знаю, — ответил я. Он взглянул испытующе, улыбнулся и, казалось, поверил мне.
— А ведь я потратил столько денег на твое воспитание, — сказал он. Эта фраза должна была прозвучать в том шутливом тоне, в каком семидесятилетнему отцу удобнее всего беседовать со своим совершенно взрослым сыном, но шутки не получилось — слово «деньги» заморозило ее. Покачав головой, отец отверг также лимонад и красное вино.
— Считаю, — сказал он, — что в данных обстоятельствах самый подходящий напиток — минеральная вода.
Я вынул из серванта два стакана и открыл бутылку с минеральной водой. На сей раз я, кажется, не допустил никаких оплошностей. Отец, наблюдавший за мной, благосклонно кивнул.
— Тебе не помешает, — спросил я, — если я останусь в халате?
— Помешает, — ответил он, — безусловно. Оденься, пожалуйста, по-человечески. Твое одеяние и этот запах кофе придают нечто комичное всей сцене, что ей вовсе не присуще. Я намерен поговорить с тобой серьезно. Кроме того... извини, что я называю вещи своими именами... мне глубоко неприятно любое проявление расхлябанности — ты это, надеюсь, помнишь.
— Это не проявление расхлябанности, — возразил я, — а потребность в разрядке.
— Не знаю, сколько раз в жизни ты действительно был послушным сыном, сейчас ты не обязан меня слушаться. Я тебя просто прошу — сделай мне одолжение.
Я поразился. Раньше отец был человек скорее застенчивый и малоразговорчивый. Но в этих телестудиях он навострился рассуждать и дискутировать, сохраняя «присущее ему обаяние». А я слишком устал, чтобы противиться его обаянию.
Я пошел в ванную, стянул с себя облитые кофе носки, вытер ноги, надел рубашку, брюки, пиджак и босиком побежал на кухню; там я вывалил на тарелку целую гору подогретой фасоли и не долго думая выпустил туда же сваренные всмятку яйца — белок я выскреб из скорлупы чайной ложечкой, взял ломоть хлеба, ложку и опять пошел в столовую. Лицо отца мастерски выразило любопытство, смешанное с отвращением.
— Извини, — сказал я, — но с девяти утра я сегодня не имел ни крошки во рту; думаю, тебе не доставит удовольствия, если я паду к твоим ногам бездыханный.
Он принужденно улыбнулся, покачал головой, вздохнул и сказал:
— Ну хорошо... но учти, что одни только белковые вещества вредны для здоровья.
— Я съем потом яблоко, — сказал я. Перемешал фасоль с яйцами, откусил кусок хлеба и отправил в рот ложку этого варева — оно показалось мне очень вкусным.
— Советую тебе хотя бы полить томатным соком, — сказал он.
— У меня нет томатного сока, — ответил я.
Я ел чересчур быстро, и те звуки, которые неизбежно сопутствовали моей еде, видимо, раздражали отца. Он пытался скрыть свое отвращение, но это ему явно не удавалось; в конце концов я поднялся, пошел на кухню и, стоя у холодильника, доел фасоль; во время еды я смотрел на себя в зеркало, которое висит над холодильником. В последний месяц я не делал даже самой необходимой гимнастики — гимнастики лицевых мускулов, Клоун, у которого весь эффект построен на том, что его лицо неподвижно, должен очень следить за подвижностью лица. Первое время я начинал упражнения с того, что показывал себе язык; я как бы приближал свое лицо к себе, чтобы потом отдалить его. Впоследствии я отказался от этого, я просто смотрел на себя в зеркало, не делая никаких гримас, по полчаса каждый день; смотрел до тех пор, пока не терял ощущение собственного «я»; но я не Нарцисс, не склонен к самолюбованию, поэтому мне иногда казалось, что я схожу с ума. Я просто забывал, что это я и что я вижу собственное лицо; кончая упражнения, я поворачивал зеркало к стене, а потом среди дня, проходя случайно мимо зеркала в ванной или в передней, каждый раз пугался: на меня смотрел совершенно незнакомый человек, человек, о котором я не мог сказать, серьезен он или дурачится — длинноносый белый призрак... И я со всех ног мчался к Марии, чтобы увидеть себя в ее глазах. С тех пор как Мария ушла, я не могу делать гимнастики лицевых мускулов — боюсь сойти с ума. Кончив упражнения, я всегда подходил к Марии совсем близко, и в ее зрачках снова находил себя — крохотное, немного искаженное лицо, но все же я его узнавал: это было мое лицо, то самое, которого я пугался в зеркале. Но как объяснить Цонереру, что без Марии я не могу репетировать перед зеркалом? Теперь я наблюдал себя за едой; мне было не страшно, а просто грустно. Я отчетливо видел ложку, фасоль с кусочками яичного белка и желтка, ломоть хлеба, который становился все меньше. Зеркало показало мне печальную действительность: пустую тарелку, ломоть хлеба, который становился все меньше, и слегка испачканный рот, я вытер его рукавом пиджака. Сейчас я не репетировал. Не было человека, который мог бы вернуть меня самому себе. Я медленно побрел опять в столовую.