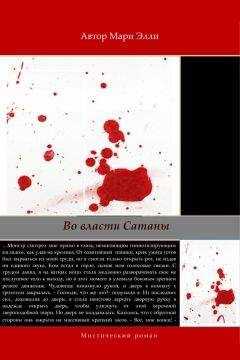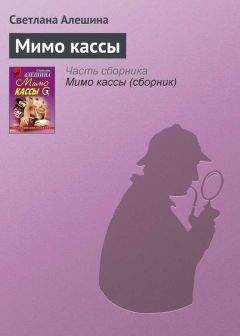Федор Кнорре - Без игры
— Да ерунда какая-нибудь. Выпили.
— Слушайте, а это правда, что он сторож?
— Кто? Ваня? — Наборный рассмеялся от удовольствия. — Строго говоря, да, сторож. Мой приятель. Я люблю, когда мне задают такие вопросы. Знаете, на что я похож? Такой громадный шкаф во всю стену. С ящиками и ящичками. И там все про всех. Даты в записных книжках, а все остальное хранится в этом лысом вместилище, — он многозначительно и деликатно, как в дверь высокого начальника, постучал косточкой согнутого пальца себя по виску. — Тынов? Иван Федорович? Пожалуйста. Вам полностью или кратко?
— Ну, как хотите.
— Работает лесником, второй год... виноват, скоро уже два года. Характер вредный, но исключительно только для самого себя. Вообще мы с ним приятели — я уже говорил. Нездешний, но это уж из большого ящика. Тут пользуется некоторой популярностью среди местного населения тем, что палец финотделу поломал. Про это расшифровать?
— Зачем палец?
— Собственно, из-за кабаненка. Фин, в смысле финотдельский начальник, в неположенный срок подстрелил кабанчика. Естественно, все это в лесу — и никто не видел, как оно произошло. А произошла некоторая потасовка, при которой у фина поломался палец, и он уже подал было в суд на Тынова, что тот хулигански превысил, набросился, и кабанчика никакого не было, поскольку тот действительно убежал с места происшествия. Подраненного кабанчика, впрочем, впоследствии обнаружили. Но остался до глубины души оскорбленный начальник и учинивший самочинную расправу, недозволенно превысивший, лесник. Пальца, конечно, жалко, хотя он после ремонта только кривоватый остался, но самолюбие начальника находилось в болезненно тяжелом состоянии. Инфаркт самолюбия. Понимаете, у всяких Шекспиров мы наблюдаем какое-нибудь несмываемое оскорбление и жгучую жажду мести, а в районном масштабе это все тоже бывает, только без факелов и тыканья шпагами... а все равно кипит... кипит... Ну, следствие, да... я забыл сказать. Фин-то ведь произвел выстрел из второго ствола. Непроизвольно, или в воздух, или Тынов сам в себя произвел выстрел, вырывая ружье, но след на полушубке был налицо. Тынов утверждает, что фин кричал ему «не подходи!» и наставил ружье, а Тынов подошел и вырвал ружье у него из рук, причем оно произвело выстрел. А фин, конечно, утверждает, что лесник выскочил и набросился на него из-за куста, когда он просто себе шел и шел в раздумье по лесной чаще, а ружье держал, как все люди держат. Ну, пускай кабаненок, так это что? Штраф, и только. А пальцы ломать не положено, верно? И тут все испортил следователь Севастьянов. Такой, понимаете, Шерлок Холмс. Он что? Он двух охотников, очень опытных, призвал и произвел при их помощи следственный эксперимент... даже краской как-то пальцы им мазал и доказал как дважды два, что именно такой перелом пальца может произойти исключительно в тот самый момент, когда у тебя ружье из рук, и именно на левую сторону, выкручивают, а палец в скрюченном виде нажимает на спусковой крючок, то есть как раз с целью произведения выстрела, в таком неудобном положении. А Тынов так в точности преспокойно и докладывал: когда он на фина пошел, тот поднял на него ружье и палец держал на спуске. Такой следователь этот Севастьянов дотошный, настырный! Накатал заключение, и дело о превышении лопнуло... Ивану просто по-дружески объяснили, что людей ломать все-таки не надо, гораздо культурнее оформить актом, и я ему говорю: «Что ж ты, нелепая личность, на ружье-то попер?» Он только плечами пожимает. Я опять к нему. Так знаете, что он мне в конце концов ответил? «А мне, говорит, интересно было посмотреть, посмеет он выстрелить или нет?» Видали такого?
— Правда, это странное объяснение. Так он в него не выстрелил?
— Фактически, вероятно, нет. Это когда у него из рук выкручивали, тот, может, нехотя надавил. Скорей всего, именно непроизвольно. Ну зачем ему связываться с таким делом, он начальник фино, а не злодей. Престиж — другое дело. А убивать разве он будет...
Пока Наборный рассказывал, она слушала с рассеянным видом, но очень внимательно, и все время, не отрываясь, смотрела на Тынова, который все лежал поодаль на траве, опираясь на локоть. Он нарочно отошел в сторонку, лег и уставился в землю, прекрасно продолжая видеть самого себя, какой он красавец валяется тут среди белого дня на затоптанной траве, без кафтана. И рубаха на нем мятая, желтоватая, собственной стирки. И все-таки, вероятно, каким-то образом он почти все время не терял из виду Осоцкую с Наборным, потому что вдруг заметил, куда она, чуть повернув голову, посмотрела. Он покосился по направлению ее взгляда. От грузовичка с выездным буфетом шла Дуся, как-то торжествующе и весело помахивая бутылкой пива. Она ступала легко по неудобному косогору, обходила лежащих, со смехом отдергивала бутылку от тянувшихся за ней рук. Он невольно издали отметил еще раз, до чего короткий на ней халатик, да и после того, как она подошла и присела около него на корточки, халатик длиннее не сделался.
На минуту ему отчаянно захотелось, чтобы она куда-нибудь провалилась вместе с бутылкой, голыми ногами и смеющейся рожицей. Безошибочно он уловил на себе безмятежно-пристальный взгляд Осоцкой, даже понял, что разговор идет в эту минуту именно о нем. Он с досадой отмахнулся от бутылки, которую ему игриво, сверху, прямо перед носом повесила Дуся. Дуся сковырнула жестяную пробку открывалкой, и он, принужденно усмехнувшись, принял из ее рук бутылку. Запрокинув голову, он, не отрываясь, вытянул из горлышка пиво. Не глядя, протянул руку и отдал пустую бутылку. Дуся, смеясь, вытряхнула ему на голову несколько оставшихся капель с пеной.
Непринужденно раскачивая на ходу пустую бутылку, которую она ловко держала за горлышко двумя пальцами, Дуся по дороге к своему грузовичку прошла очень близко мимо Осоцкой, мельком приятельски кивнув Наборному.
Марина, рассеянно и прелестно улыбаясь, смотрела мимо или сквозь Дусю, глубоко изумленная вспыхнувшим в себе чувством беспричинной ненависти, какой-то гадливости, презрения к ней и глубокого собственного унижения одновременно — бессмысленными, никогда не испытанными ею оскорбительными, постыдными чувствами, откуда-то свалившимися ей на голову.
Тынов лежал, совсем опустив голову, разгребая пальцами пучки пыльной травы, и с каждой минутой крепла в нем уверенность, что произошло непоправимое несчастье. Ничего не произошло, а уверенность не уходила. Все было как-то интересно, почти радостно, и вот все кончилось, оборвалось. Так явственно, как будто только что солнце светило, жужжали пчелы, стрекотали кузнечики в траве, и вдруг оказалось, что давно уже льет затяжной серый дождь и холодные лужицы уже подтекают под тебя. «За что она меня возненавидела?» — в полной растерянности все время думал он до тех пор, пока опять не возник, после вспыхнувшей суеты, съемочный момент и он не оказался снова на минуту с ней рядом.
— А вы... мне показалось, что... Там, с Наборным, что-нибудь про меня говорили?
— Про ва-ас?.. С чего это вам в голову пришло?
— Да нет... Просто мне показалось, вы смотрели, — совсем уж несуразно само выговорилось у него.
— А, вот оно что! — подчеркивая нелепость такой отговорки, она сухо усмехнулась, — Все-таки странно, почему это человек воображает, будто разговаривают именно о нем, а не о соборе... Фрола и Лавра.
Больше ни слова не было сказано, да и съемочный день катился к концу. Тынов уже еле терпел, стиснув зубы, когда все это кончится. Если б можно было, он готов был тут же сорвать свой шутовской кафтан и уйти, не оглянувшись. Уже перед последним дублем он услышал, как администратор спрашивал у Эраста Орестовича: «Можно считать, массовку отсняли?» — и тот с сомнением промямлил: «Массовку отпустите, пожалуй... А вот кое-кого из этих задержите... ушкуйников».
После этого и произошла бессмысленная до полного недоумения сценка.
— Видно, как вам не терпится поскорей отсюда удрать. К своим друзьям. Сейчас кончится.
— Каким друзьям?
— Ну, откуда мне знать? С кем вы делите свой досуг? И свое пиво.
— Да я вообще сейчас отсюда уеду.
— Как же вы можете? — она подавила равнодушный зевок. — Вы не можете уехать. Еще завтра можете понадобиться. Слышали, Эраст Орестович сказал.
— Обойдутся. На другого болвана эту рясу напялят.
— Да вы просто права не имеете уезжать...
И тут с пулеметным грохотом заработал мотор, невозможно стало говорить тихо, приходилось кричать, и они во весь голос закричали, заспорили: можно ему уехать или нет.
Она его не только не уговаривала, не упрашивала, наоборот, как будто дразнила его своей пренебрежительной, вызывающей уверенностью, что он не уедет!
— Никуда вы не уедете! Не смеете уезжать! — кричала она прямо ему в лицо.
С упоением отчаяния от того непоправимого, что делает и не может остановиться, и что его неудержимо тянет сделать еще как можно непоправимей и хуже, он в ответ кричал, усмехаясь, что нет уж, он все-таки уедет, — тоже ей прямо в лицо, — и в то же время странным каким-то образом это не мешало ему с растерянным изумлением, близким к восторгу, полуослепленно следить за этой, неожиданно прорвавшейся наружу, открывшейся ему горячей, необузданной жизнью ее, прежде такого невозмутимого, лица.