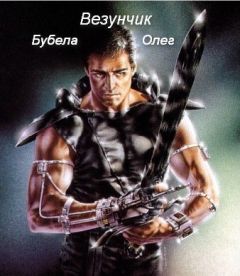Олег Постнов - Страх
Зато очень прочно, последовательно и умело я расположился в гостиной. Все, что могло быть мне нужно, я стащил сюда. Я, конечно, вовсе не беспокоился о красоте обстановки, а потому придвинул к креслу диван, навалил туда горой одеял и подушек, расставил чайник, вентилятор и телефон вокруг себя так, чтобы мог легко до них дотянуться, buffet froid (бутерброды, салат) расположил на тумбочке, в нее же запихал ночной горшок, после чего наконец улегся на спину и взял книгу. Плечо давно онемело от перевязи и теперь только тупо и скучно ныло, обдавая меня холодком. В честь него — нужно же уважать раны! — я все же взял «дистанционку» и включил телевизор. Пиратские выходы в свет демократов и нарочито-торжественный слог диктора от ГКЧП в равной степени оставили меня равнодушным. Зато я обнаружил, что после смерти матери не могу спокойно читать первой главы «Романа с кокаином», так что пришлось искать что-нибудь еще. Впрочем, полка была рядом. Некоторое время мне казалось, что я довольно уютно устроился в этом своем мирке. Слегка плыла голова, но это было даже приятно. Где-то вдали, за окном, стреляли. Может быть, начался тот самый штурм.
То, что женщина непостоянна, читал я, я признаю наравне со всеми другими, это так; но то, что непостоянство — плохая вещь, я отрицаю вопреки всем. Вода течет, небо струится, луна растет и потом гаснет, лик земли меняется постоянно. Те, кто умней, разнообразны в своих делах, лишь серая косность неизменна. Женщина сложней мужчины, зачем требовать от нее то, что пристало скотам, камням, недрам? Золото, если лежит без движения, темнеет. Вода портится. Воздух гниёт. Почему же то, что хорошо для других вещей, плохо для женщин? Потому что они обманывают мужчин. Ах, вот где беда! Вы могли бы звать это удовольствием, тем, что ввергает вас в самую нежную игру, тем, что, наконец, шевелит и оживляет вас. Но вы зовете это изменой. О, я бы хотел, чтобы ваша супруга никогда не менялась, как ее сорочка, — тогда б вы узнали, чем пахнет верность. Не правда ли? Измена более опрятная вещь. И женщина в ней совершенней, чем небо, земля, луна и всякая вещь под луной. Ибо путем опыта посвященные хорошо знакомы со звездами, звездочеты умеют предсказать ход светил. Но я бы поглядел на ученого мужа, столь искусного, чтобы решить наперед, когда простейшая из женщин вдруг вздумает изменить. Не удивительно: философия учит нас, что все легкое тянется вверх, а тяжелое — вниз. Но женщины легкого поведения быстрей падают перед нами, противореча законам натуры. Потому женщин нельзя знать. Неизвестного в них всегда больше, чем ждешь. Каждая женщина — наука. И тот, кто корпит над ней всю свою жизнь, в итоге знает ее не лучше, чем вначале…
Если читатель решил, что я брежу, то пока еще нет. Просто Джон Донн очень хорош ко сну — даже в моем собственном переводе. Давно была полночь. Дрёма навертывалась мне на глаза, но это была необычная дрёма; это была какая-то тяжкая сонная пелена, и я вовремя спохватился и стряхнул ее, и тотчас сообразил и стряхнул градусник. У меня оказался жар, правда не слишком сильный. И этот жар был спутником странных грёз. Вдруг мне привиделась одна моя давняя и совсем случайная подружка, кажется, кореянка, я с ней спал всего раз. Но теперь я с необычной для себя отчетливостью вспомнил все события того вечера, ее смешную манеру объявлять вперед, словно меню, на что она согласна, а на что нет, и то, как она стеснялась своих кривых (а на деле вполне стройных и милых) ножек. Мне вдруг захотелось ее опять, но с такой нестерпимой силой, что я даже стал думать, что нужно немедленно позвонить ей. Постанывая от боли в плече, и особенно от озноба, я разыскал телефонную книжку, потом понял, что вовсе забыл, как эту девочку зовут, но не отчаялся, а стал перелистывать страницу за страницей, просматривая адреса и имена, пока и впрямь не нашел то, что нужно. Про время я, конечно, забыл. Штора была открыта, и чуть ущербная луна — вечная изменница и путана — светила ко мне на подоконник. На мои гудки ответили тут же, но это был незнакомый рыдающий женский голос, который сообщил, что «Надя еще днем ушла — да, к этому клятому Белому Дому, и ее все нет, Боже мой, найдите ее!» — «С удовольствием», — сказал я и повесил трубку. Ну конечно! Как я не догадался сам, уж она-то этой кутерьмы не упустит! Я вспомнил ту жадность, с которой она давалась мне. Со мной у нее было много новых ощущений. Я опять застонал и побрел в ванную. Разум, взбодренный холодной водой, повелел мне выпить аспирин. С этим я наконец и уснул, и во сне был вызван к доске, чтобы решить бесконечную тригонометрическую задачу. В ней было много иксов, бинтов и йода, и когда я открыл глаза, то понял, что ночь кончилась. Все было в порядке. Зеленый рассвет резал глаза. У изножья стояла Женщина в Белом. Ее ладонь тянулась к моему лбу.
Что же, занятно было увидеть, как она станет таять, когда сквозь нее я включу телевизор. Левая рука, правда, висела. Мало того: ее словно тянуло изнутри, как магнитом, чем-то похожим на сладострастный зуд, и тянуло именно в сторону мары. Но правая была в порядке. Я щелкнул «дистанционкой». Глупый черный ящик заорал что-то бравурное — кажется, тут-то и стало ясно, что демократы победили. Впрочем, не поручусь. Я явно бодрился. Я и сейчас бодрюсь. Есть вещи, над которыми можно смеяться, можно кричать, можно падать в обморок, но к которым привыкнуть нельзя. И когда она просто повернулась и ушла в дверь, я был весь в поту и еще с час не мог себя заставить ходить по квартире. Свой ночной горшок я опрокинул на пол. Счастье еще, что я все же опомнился и вытер лужу ко времени, когда в замке забренчал ключ и появилась тетя Лиза. Опускаю коллекцию междометий, которой она наградила меня.
Мне понадобилась неделя, чтобы встать на ноги — в пределах квартиры, конечно. Я не сомневался ничуть, что тайный смысл моей раны был в возвращении меня на путь истинный. Время остановилось с Настей, как я и говорил ей тогда, а теперь его снова завели. Я не был удивлен, хотя догадывался, в чем сила такой прививки: я слишком хорошо знал свою судьбу. И мне было даже любопытно выяснить, как же именно она думает осуществить свои планы. Киев теперь был пуст, я был, правда, свободен, но слаб, ей, казалось бы, не на что было опереться. Мои дела по службе шли в гору, я получил новый заказ, хотя и взял покамест больничный; большая моя статья «Рок у Газданова» появилась в печати, к тому же с падением старой власти в эмиграции (к примеру) терялся смысл. Словом, ей нужно было выждать, найти что-то новое, иное, это было ясно. Я тоже решил не спешить. Приготовился, сколько мог, к очередным — мертвым — визитам мертвых дам, не забыл и про живых, стал даже настойчив, и это, кстати, не прошло мне даром. Тетя Лиза прислала Кристину (давно со всех сторон опробованную мной), моя азиаточка нашлась через день в полной целости и сохранности, забежала разок, наболтала с три короба вздору (те же танки и баррикады), утешила раненого как могла и обещалась еще, хоть мне и пришлось после этого пить горстями тетрациклин и притворяться дураком с Кристиной, меж тем как у ней все не находилось потом на меня времени. Но я не был ничуть в обиде на нее. К чему? Велика Москва и много в ней людей. Это давно известно. Женщины к тому же непостоянны, как нас учит философ. В конце концов и Кристина ведь была совсем ничего, если только не лениться надевать всякий раз презерватив, которыми я теперь запасся загодя и уже ничуть не боялся последствий. Порой нам с ней бывало славно, тетрациклин подействовал, и мы долго ладили с ней.
ХХIХ
Зато по моем выздоровлении (я имею в виду плечо), я все же провел небольшое дознание — просто из любопытства, — желая понять, как же все-таки могла приключиться со мной такая глупость. Я упал в совершенно пустом мирном проулке, километрах в пяти от тех мест, где, кстати сказать, как теперь известно, не так уж много тогда и стреляли, а штурм был вообще отменен. Туда, захоти я и впрямь лезть под пули, мне бы пришлось добираться троллейбусом — возможно, тем самым, который сожгли в ту ночь. Все это было похоже на чертовщину, и я искренне недоумевал, пока однажды вечером не приметил в небе быстрые стёжки трассирующих пуль: в богоспасаемом городе, как видно, и посейчас кто-то еще стрелял, просто, может быть, в воздух, производя эффект падучей звезды навыворот; но эта самопальная астрономия, конечно, могла при случае стоить жизни кому-нибудь или — как мне — наделать хлопот.
Нет, греки со своей эйсангелией (смотри выше) были бесспорно правы. Любопытным, вероятно, будет интересно узнать, что за все это время — со дня ранения и до конца болезни, то есть почти уже с месяц — я ни разу не звонил Насте и даже не думал о ней. Верно, таков был вообще мой стиль.
Жизнь моя вновь стала замкнутой и пустой. Прогулки по улицам, как и поездки в транспорте, нравились мне все меньше, ибо после ночи в бреду и утреннего кошмара я стал все чаще видеть в толпе людей с явными признаками зелени на лицах; мало того, остальные, то есть живые и обыкновенные, теперь казались мне слегка подкрашенными в бледный коричневый цвет: гуашевая разведенная охра вдоль скул и ушей. Впрочем, опять-таки, эндуастос давал себя знать. Боковым зрением подозрительный отсвет был лучше виден, чем напрямик, в лоб. Особенно приглядываться я не всегда решался, а потому прибывал зачастую в сомнении, которое, признаюсь, мне давно надоело. Приходилось возвращаться, хотел я того или нет, в мой дом. От Настиных уборок давно не осталось и следа. Тем более враждебным казалось мне полное хлама пространство, с которым опять, в который уже раз, я вступил в безуспешный бой. Но теперь, однако, я стал действовать наконец-то решительно. Мысль о том, что тысячу мелочей я никак не могу привести в порядок (цель — снобизм систематора с отдушкой картезианства), породила вдруг во мне идею, что в таком случае я могу зато попросту уничтожить все эти вещи (оправдание: наиболее древний и не всегда варварский способ уборки). Я решил не щадить ничего. Нищие уже наводнили Москву, хотя, кажется, кордоны в аэропортах и на вокзалах я своими глазами не видел. Поэтому затруднений с одеждой — той, что остается от мертвых, — не было никаких. Я просто сворачивал ее без разбору в тюки и под покровом тьмы крался к ближайшему мусорному баку. Кошки шарахались из-под моих ног. Но, сколько я мог судить, к утру от моих приношений не оставалось и следа. Еще бы! Я помню, к примеру, как снес вниз отцовское, почти еще модное кожаное пальто. Его можно было продать. Но я был верен себе. Пакет с маминой (в последний раз примененной на похоронах, кажется, Настей и, кажется даже, не без некоторого жутковатого успеха) был мной набит до краев — туда же пошли ее зубочистки, зубные щетки, банные принадлежности, в том числе и кусок пемзы, еще хранивший, конечно, частички ее кожи, но об этом я не хотел думать, ее карманные зеркальца и расчески, — этот пакет я честно заклеил скотчем и спустил в мусоропровод, равно как и то постельное белье, на котором она умерла. Шкафы опустели, ящики комода, теперь небывало легкие, потрескивали, как гнилые орехи, в один из них я сложил все документы, которые нашел — Боже мой! я никогда бы не поверил, что у нас в доме может быть такое обилие грамот, дипломов, удостоверений, свидетельств и всей, подобной им, канцелярии, в которой два одинаковых сиреневых корешка — справки о смерти — ставили двоеточие в начале моей новой жизни. Эту новую жизнь я принимал с трудом. Не стану лгать, свидетельство о браке и два невероятно старых, изломанных на сгибах листка — свидетельства о рождении: одно, как понятно, по-малоросски, от народного комиссариата внутришних справ — стоило мне слёз. Я вышел из положения тем, что отвел им особую толстую папку с двойной крест-накрест шнуровкой и сложил по возможности сверху то, что могло еще мне понадобиться в нотариальных делах. Потом я взялся за посуду. Дурацкие вазы — подарки на юбилеи — были приравнены мной к битым тарелкам, мусорники вновь пущены в ход, туда же пошли все пыльные экспонаты из серии «по странам мира», и я помню небывалый вид какого-то бака, из которого высовывался раструб треснувшей, когда-то модной, узкобедренной вазы чернильного колера в разводах, похожей не то на химическую реторту, не то на ствол пиратского дробовика, и рядом с ней сухое, старое, с серебристой вытертой бахромой, но все еще способное отливать в свете уличных фонарей лиловой тропической радугой крупное павлинье перо. Кокотка на свалке, помнится, подумал я. Не сделал я исключения и для отцовских книг. Пять томов «Истории дипломатии», роскошный «Поджог Рейхстага» в четырех томах, а также отменные по толщине и качеству бумаги волю мы «Всемирной истории», отвергнутые букинистом и мной (последние за то, что там ни строчкой не поминался мой знаменитый троюродный дед, что, впрочем, касается вообще всей советской справочной литературы, в свое время я это проверил) были уложены в чемоданы, специально вынутые из кладовки, начиная с фибрового — я оставил лишь свой — и кончая набором маминых сумок и чехлов, и так, в чемоданах и сумках, проследовали на ту же помойку, где я их и оставил: я никуда не думал ехать, стало быть, не сидеть же на них! В букинистическом, правда, у меня все же взяли за сносную цену Прудона, Каутского и, кажется, Лассаля — дальше них отец в «классике», к счастью, не пошел, а это и впрямь были раритеты. Толк от них обнаружился позже, когда я достал с антресолей семейный архив. Переписка отца с его первой женой: толстые конверты с синей бумагой и марками с видом Кремля, телеграммы на огромных бланках и даже маленький сверток с карточками фототелеграмм; его переписка с матерью (я понял, что никогда не посмею ее открыть); их дневники — верно, тоже не для моих глаз. Всё вместе — целый рюкзак, который сгорел лишь при помощи большой порции керосина, купленного как раз в счет Каутского и завонявшего весь двор. Долой Рейхстаг! Туда же пошли и фотографии, из которых я тщательно отобрал лишь то, что хотел, а заодно, кстати, мои собственные черновики, что благотворно сказалось в смысле благоустройства на моем столе. И тут настало время для ювелирных изделий: бус, подвесок, колец, порой драгоценностей — словом, самое тяжкое время для меня. Я, разумеется, и не подумал нести их в Торгсин, как кот Высоцкого. По странной аберрации чувств я решил (я уже готов к обвинениям в кощунстве) раздать их своим подружкам, сколько бы их (тех и других) ни накопилось за эти годы. В итоге я привел в порядок собственные записные книжки, а затем устроил на неделю из своей квартиры дом свиданий, осуществляя последовательно свой план. Перед этим, кстати, я собрал в отдельный конверт все непристойные снимки, которые делал порой с моих милых пассий — в разные времена, хоть и в одинаковых обстоятельствах, — и это, смешно сказать, сильно подбодрило меня. Последний золотой кулон, особенно дорогой и к тому же старинный, достался той самой белобрысой кобылке, на коей я чуть-чуть не женился два года назад. Она была так потрясена подарком — явилась на мой зов не за тем, — что по инерции ушла лишь тогда, когда до последней капли выдавила в себя все содержимое моих чресел. Я не мешал ей и, кстати, пустил в ход старый отцовский «Полароид», запечатлевший ее усилия главным образом затем, чтобы поставить наконец точку в этой моей коллекции (семейный альбом не в счет). Бедняжка так была растрогана подарком и моими ласками, что даже тут же расписалась на оборотах всех снимков, что послушно извергла на свет родильная фотощель аппарата. Потом она оделась и ушла. Как всегда, я остался ею доволен, и лишь много времени после, уже на горе, рассматривая на досуге снимки и сличая факты, тогда мне неизвестные, подумал, что, очень может быть, эти ее милые росчерки на обороте фоточек значили вовсе не то, что я думал тогда, и что если предположить — просто в порядке шутки — наличие где-нибудь какой-нибудь адской Книги Соитий из инфернальной Вавилонской библиотеки, к примеру, — этакий пахнущий смолой и серой увесистый грозный гроссбух, — то моя резвая бухгалтерша (она как раз ею и служила на какой-то фирме) попросту отметилась в нужной графе, поставив тем самым не просто точку, а как бы даже подведя черту, демаркационную линию, уравновесив тем самым дебет и кредит, ниже которых, как известно, должен стоять ноль. Но тогда, повторяю, я этого еще не знал. И продолжал свирепствовать как мог в своей тяге к порядку (Каллас пишет, что это начало шизофрении; не согласен с ним). Все же мне кое-что теперь удалось. По крайней мере, грязная пыль не лежала уже под диванами, как старая вата меж стекол, которую я, к слову сказать, тоже выкинул не задумываясь, хотя мог бы и задуматься: с первым холодом верхние этажи, в том числе наша квартира, в одночасье прохватывались насквозь. Но я с гордостью бродил по действительно теперь пустым и чистым помещениям своего жилья, даже вымыл полы, даже пропылесосил ковер в зале, даже натер сам паркет. Признаюсь, дабы рассеять законные недоумения: от всех этих трудов слегка смирилась моя бессонница, слишком рьяно вдруг одолевшая меня. Ее телеологический смысл (читай: польза) был, правда, мне очевиден, ибо зеленый мир отступал под ее кнутом, но зато после того весь день мне жгло веки, и, кстати, тут-то потусторонняя плесень брала реванш: на невыспанные глаза я особенно хорошо различал мертвых и живых в толпе на улице. Может быть, оттого-то я и обратил как-то раз внимание на одного маленького, чрезвычайно широкого — но не толстого — и весьма добродушного пожилого иностранца: в нем не было и намека на любой из двух враждебных цветов. Я застал его за редким занятием и в не совсем обычном месте: на дне какого-то перехода близ посольства США, где он снимал огромной глазастой камерой только что учрежденный — волей масс — бестолковый и пышный памятник-алтарь в честь жертв той самой ночи. Там было, помнится, распятие, венки, ленточки, какие-то таблички, должно быть, с именами жертв, свечи или огарки; он же, расставив короткие ноги в непередаваемо-американских штиблетах и столь же американских, чуть-чуть коротких ему брюках со складкой, с темно-красным галстухом навыпуск из-под кургузого, но с иголочки пиджачка, с милым, смешным и довольно изрядным брюшком, обтянутым дорогой полосатой рубахой на запонках, и в черепашьих очках от Geoffrey Beene, нацеливался через эти очки объективом на сей причудливый мемориал и, по всему судя, был от него в восторге. Было утро, около десяти часов, к посольству сползались искатели виз, но здесь, в переходе, никого, кроме нас, не было, да и я попал сюда лишь в порядке осмотра мест былой славы — слава Богу, не моей. «Hi», — сказал я (приветствие) и добавил, тоже по-английски, ничего не значащий вопрос, вроде нашего «как дела?»: