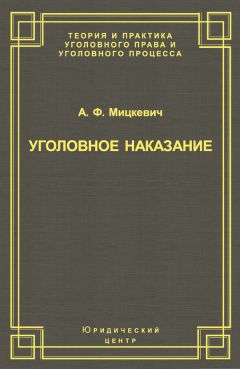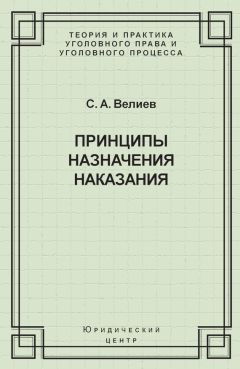Роберт Вальзер - Семейство Таннер
На миг она задумалась, потом продолжила:
— Когда ты уедешь, а вскоре так и случится, не пиши мне. Я не хочу. Ты не должен думать, будто обязан сообщать мне о своем дальнейшем житье-бытье. Оставь меня без внимания, как бывало раньше. Какой прок нам обоим от переписки? Я буду жить здесь по-прежнему, с удовольствием вспоминая, что ты провел со мною целых три месяца. Все вокруг станет навевать мне твой образ. Я наведаюсь во все те места, которые нам обоим казались прекрасными, и найду их еще прекраснее; ведь нехватка, урон делает вещи только краше. Мне и всей округе будет чего-то недоставать, но эта пустота, сама эта нехватка наполнит мою жизнь еще более милыми ощущениями. Я не склонна ощущать нехватку как гнет. С какой стати?! Наоборот, в ней заключено нечто избавительное, дарящее облегчение. Вдобавок пустоты существуют затем, чтобы наполнить их чем-нибудь новым. Утром, собираясь вставать, я вдруг подумаю, будто слышу твои шаги и твой голос, и улыбнусь своему заблуждению. Знаешь, я люблю заблуждения, и ты тоже их любишь, я уверена. Странно, сколько я наговорила за эти дни. Эти дни! По-моему, эти дни и сами должны чувствовать, как я ими дорожу, и из уважения ко мне им бы не мешало быть медлительнее, протяженнее, ленивее, спокойнее — и тише! Впрочем, они так и делают. Я ощущаю их приближение как поцелуй, а их таинственный уход — как рукопожатие, как приветный взмах милой, знакомой руки. Ночи! Сколько ночей ты провел здесь, у меня, и как крепко спал; ты мастер поспать — там, в каморке, на соломенном тюфяке, который скоро лишится хозяина и сна. Грядущие ночи станут приближаться ко мне робко, как набедокурившие ребятишки, потупив взор, подходят к отцу или к матери. Симон, когда ты уедешь, ночи станут менее спокойны, и я скажу тебе почему: ночью ты был так спокоен, своим сном умножал покой и тишину. Все эти ночи оба мы были тихими, спокойными людьми; теперь мне придется в одиночку быть тихой и спокойной, несколько принужденно, и тишины и покоя убавится; ведь я часто буду привставать в темноте, прислушиваться к чему-то. Вот тогда-то я почувствую, что вокруг уже далеко не так тихо и спокойно. Может статься, я и всплакну, но не из-за тебя, так что, будь добр, обойдись без домыслов. Нет, вы посмотрите, он сей же час принимается фантазировать. Нет-нет, Симон, из-за тебя никто плакать не станет. Уехал — и ладно. Всё. Думаешь, из-за тебя можно всплакнуть? Ничего подобного. Даже не думай. Чувствуется, что ты уехал, заметно, ну и что дальше? Тоска или что-нибудь вроде того? По таким людям, как ты, никто не тоскует. Ты не пробуждаешь тоску. Ничье сердце не затрепещет тебе вослед! Устремить к тебе помыслы? Да никогда! Иной раз о тебе вспомнят, небрежно, как ненароком роняют иголку. Большего ты и не заслуживаешь, доживи хоть до ста лет. Ты совершенно неспособен оставить по себе память. После тебя вообще ничего не остается. Даже не знаю, что ты мог бы оставить, у тебя ведь ничегошеньки нет. И нечего так нахально смеяться, я говорю всерьез. Прочь с моих глаз! Марш отсюда!..
В последующие дни погода испортилась, лил дождь, что опять-таки послужило поводом задержаться. Не мог же Симон отправиться в путь при этаком ненастье. Мог бы, конечно, да только зачем, не лучше ли дождаться хорошей погоды? Вот он и остался. На день-другой, не больше, думал он. Почти целый день он сидел в большом пустом классе, читал роман, который перед уходом хотел дочитать. Иногда прохаживался между рядами парт, не выпуская из рук книгу, которая так его увлекла, что он только о ней и думал. Но чтение не продвигалось, он все время застревал в собственных мыслях. Почитаю, пока идет дождь, а как только распогодится, уеду, в самом деле уеду.
В последний день Хедвиг сказала ему:
— Ну вот, пора тебе уезжать, все решено. Прощай. Подойди-ка поближе и дай мне руку. Может статься, очень скоро я отдам себя мужчине, который меня не заслуживает. Теперешней моей жизни придет конец. Я буду пользоваться большим уважением. Люди станут говорить: дельная женщина. Собственно, мне вовсе не хочется впредь слышать о тебе. Постарайся стать добрым, честным человеком. Участвуй в общественных делах, пусть о тебе заговорят, мне тогда будет приятно услышать о тебе от людей. Или живи как умеешь, оставайся в тени, сражайся в тени со множеством дней, какие еще наступят. Я не считаю тебя способным на малодушие. Что еще сказать, дабы пожелать тебе удачи? Ты хоть поблагодари. Ну же! Неужто не собираешься поблагодарить меня за приют, который я тебе предоставила? Хотя нет, не надо, тебе это не к лицу. Не умеешь ты поклониться и сказать, что просто не находишь слов, чтобы выразить свою благодарность. Само твое поведение было благодарностью. Время с тобой мчалось для меня во весь опор, его аж в жар бросало. В этом чемоданчике правда все твое достояние? Ты и впрямь беден. Дорожный чемоданчик — вот и все твое обзаведение. В этом есть что-то восхитительное, но и что-то жалкое. Ступай теперь. Я посмотрю в окно, как ты уходишь. Когда поднимешься на гребень холма, обернись и погляди в мою сторону. Какие еще нежности нам нужны? Брату и сестре? Что говорить, коли сестра никогда более не увидит брата? Я прощаюсь с тобой довольно холодно, потому что знаю тебя, знаю, что ты терпеть не можешь прощальных нежностей. Между нами они ничего не значат. Так что скажи мне «прощай» и уходи…
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Около двух часов дня Симон поездом воротился в большой город, который покинул примерно три месяца назад. Вокзал был черен от людских толп и полон того характерного запаха, какого нет разве что на маленьких сельских полустанках. Симон дрожал, выходя из вагона, он проголодался, закоченел, устал, загрустил, пал духом и не мог отделаться от некоторой подавленности, хотя и твердил себе, что это глупо. Подобно большинству пассажиров он сдал свои вещи в камеру хранения и затерялся в толчее. Обретя свободу движения, он сразу взбодрился и снова обратил внимание на свое беспечное здоровье, которое от пребывания в деревне только окрепло. Поел, как бывало раньше, в одной из диковинных народных столовых. Закусил без особого аппетита; еда была постная, скверная, вполне подходящая для бедного горожанина, но никак не для избалованного деревенского жителя. Остальные едоки смотрели на него пристально, словно догадывались, что он явился из сельских краев. А Симон думал: «Эти люди наверняка чувствуют, что я привык к еде получше здешней, замечают по тому, как я обхожусь с этой едой». Действительно, половину он оставил на тарелке, расплатился и не преминул мимоходом указать подавальщице, как невкусно здесь кормят. Она же лишь взглянула на насмешника, презрительно, беззлобно-презрительно, небрежно, будто ей и возмущаться нет нужды — ишь, хулитель какой нашелся! Если б еду хаял кто другой, тогда да, но этот!.. Симон вышел на улицу. Невзирая на паршивую еду и обидную мину подавальщицы, он все равно был счастлив. Небо сияло блеклой голубизной. Симон присмотрелся: да, здесь тоже есть небо над головой. В этом отношении было глупо бранить города и превозносить деревню. И он решил более не вспоминать о деревне, а привыкать к новому миру. Смотрел, как шагают прохожие впереди, куда быстрее, чем он; он-то в деревне привык ходить не спеша, нога за ногу, словно опасаясь чересчур быстрого движения. Ладно, сегодня он еще позволит себе ходить по-крестьянски, а вот с завтрашнего дня все изменится. Однако на людей Симон смотрел с любовью, без малейшей робости, смотрел им в глаза, и на ноги, чтобы увидеть, как они их передвигают, и на шляпы, чтобы подметить новинки моды, и на одежду, чтобы счесть собственную еще вполне приличной по сравнению с множеством скверных костюмов, какие он пристально разглядывал. Как они все спешат, эти люди. Задержать бы одного да спросить: куда вы этак торопитесь? Но ему недостало-таки храбрости на столь безрассудный поступок. Помимо легкой усталости и любопытства, он чувствовал себя вполне хорошо. Им владела смутная, однако ж явная печаль, но она гармонировала с легким, счастливым, чуть нахмуренным небом. Гармонировала и с городом, где слишком уж безмятежная мина выглядит почти неприлично. Симон поневоле признался себе, что идет абсолютно без всякой цели, но почел за благо принять, как и другие, целеустремленный и деловой вид, чтобы не бросаться в глаза как человек только что прибывший и ничем не занятый. Он вправду не хотел привлекать внимание и с удовольствием отметил, что его поведение ни у кого интереса не вызывает. Заключивши отсюда, что по-прежнему способен жить в городе, он еще приосанился и притворился, будто имеет некое тонкое дельце, каковое спокойно исполняет, оно не доставляет ему ни малейших хлопот, только вызывает интерес, башмаки не замарает и от рук напряжения не потребует. Он как раз вышел на красивую, богатую улицу, обсаженную по обеим сторонам цветущими деревьями, а поскольку улица была широкая, над головой виднелся небесный простор. Вправду замечательная, светлая улица, сулившая наиприятнейшую жизнь и свершение любых мечтаний. Симон начисто забыл свое намерение идти по этой улице степенным, церемонным шагом. Просто шел, подчиняясь движению толпы, смотрел то под ноги, то вверх, то вбок, на одну из многих витрин, и перед одной в конце концов остановился, собственно ничего в особенности не рассматривая. С удовольствием слушал за спиною и все-таки совсем рядом шум красивой, оживленной улицы. Он различал шаги отдельных прохожих, которые, верно, думают, что он стоит, рассматривая что-то лежащее в витрине. Как вдруг кто-то обратился к нему. Он оглянулся и увидел даму, которая, протягивая сверток, попросила донести его до ее дома. Красотой дама не отличалась, но в этот миг Симону было недосуг размышлять, красива она или нет, потому что он живо откликнулся на ее просьбу, ибо так велел ему внутренний голос. Он подхватил сверток, вовсе не тяжелый, и зашагал следом за дамой, которая мелкой степенной походкой направилась через дорогу, ни разу на него не оглянувшись. У роскошного с виду дома она остановилась и велела ему подняться с нею наверх, что он и сделал. Не видел причин не повиноваться. Войти вместе с дамой в ее дом было вполне естественно, а подчиниться ее приказу в его положении, каковое ничего ему не предписывало, — более чем уместно. Ведь он, наверно, так бы и стоял, глазея на витрину, думал Симон, поднимаясь по лестнице. Наверху дама пригласила его войти. Она вошла первой, он следом за нею, прямо в комнату, дверь которой она отворила. Комната показалась ему роскошной. Дама вернулась, села в кресло, слегка откашлялась, посмотрела на молодого человека, стоящего перед нею, а потом спросила, не решится ли он поступить к ней на службу. Он производит впечатление человека праздного, незанятого, продолжала она, для которого получить работу будет благодеянием. В остальном он ей по душе, так пусть скажет, готов ли принять ее предложение.