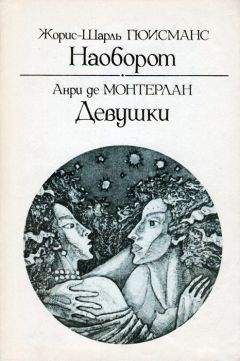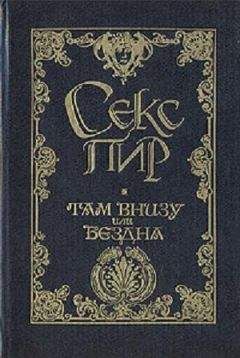Жорис-Карл Гюисманс - Наоборот
Две книги Барбе д'Оревильи особенно возбуждали дез Эссента: "Женатый священник" и "Дьявольские лики". Прочие вещи, такие, как "Околдованная", "Кавалер де Туш", "Старая любовница", конечно, были и ровнее, и в чем-то содержательнее, но оставляли дез Эссента холодным, поскольку интересовался он сочинениями нездоровыми -- тронутыми упадком и болезнью.
В своих здоровых вещах Барбе лавировал, стараясь не впасть в две сообщающиеся между собой крайности католической веры -- мистицизм и садизм.
Но в этих двух любимых дез Эссентом книгах он утрачивал всякую осторожность и, ослабляя поводья, мчал сломя голову, пока не застывал у самой бездны.
Мистический ужас средневековья витал над "Женатым священником". Книга была совершенно невероятной: колдовство соседствовало в ней с верой и заговор с молитвой, а Бог Карающий, не зная снисхождения, терзал и терзал проклятую им Калисту, начертав ей на лбу красный крест -- тот самый, которым рукою ангела метил некогда жилища осужденных им на гибель нечестивцев.
Могло показаться, что задумал эту книгу измученный постами и горячкой монах, а писал буйный больной. Только, увы, помимо всех этих повредившихся в уме созданий, напоминавших сгоревшую в чахотке гофмановскую Коппелию, имелись и другие; подобные Неель де Неу, они были задуманы автором в момент, когда болезнь на мгновение отступила, и, совершенно не соответствуя общему мрачному безумию, невольно вносили в него комическую ноту, как это делает цинковая фигурка вельможи в мягких сапогах, которая трубит в рог на цоколе стенных часов.
Итак, после приступа мистической горячки у Барбе наступал период относительного спокойствия, но затем снова приходил черед нового.и еще более ужасного приступа.
Вера в то, что человек -- буриданов осел и борются в нем два различных, но равных по силе и поочередно побеждающих начала; что человеческая жизнь -поле вечной борьбы добра и зла; что возможна вера одновременно и в Сатану, и в Христа -- все это неизбежно вело к разладу души, когда она, изнемогая от тяжести борьбы, угроз и ожиданий, в конце концов отказывается от сопротивления и отдается во власть тому, кто приступал к ней с большим упорством.
В "Женатом священнике" Барбе славословит победившего Христа. Но в "Дьявольских ликах" верх берет дьявол, и его хвалит Барбе. Так возникает садизм, побочный плод веры, с которым католицизм на протяжении многих столетий боролся посредством костров и эксорсизма.
Это удивительное, почти не поддающееся определению состояние не может, однако, овладеть неверующим. Ведь оно не в телесных пороках и бесчинствах, не в кровавом насилии -- в этом случае речь шла бы только об отклонении от нормы, о сатириазисе в крайней его форме. Нет, подобное трудноопределимое состояние -- в нравственном мятеже, умственном распутстве, богохульстве, в повреждении высшего, христианского, рода. Это состояние -- в наслаждении, обостренном страхом, и подобно радости ребенка, который, ослушавшись родителей, играет какой-то вещицей только потому, что они строго-настрого запретили ее трогать.
И в самом деле, нет богохульства -- нет и условий для садизма. С другой стороны, богохульство и материи, ему подобные, имеют религиозные истоки, а значит, именно верующий отваживается на них, и отваживается намеренно, ибо что за сладость осквернять закон, который и не дорог тебе, и неведом.
Сила садизма, привлекательность его заключена, стало быть, в запретном наслаждении воздать сатане хвалы и молитвы, должные Господу, то есть ослушаться заповедей, даже исполнить их наоборот, содеять во глумление над Христом грехи, прежде прочих осужденные Им, -- богохульство и блуд.
В сущности, явление, которому маркиз де Сад дал свое имя, старо, как церковь: уже в 13-м веке, если не раньше, оно как очевидный феномен атавизма существовало в кощунственных средневековых шабашах.
Стоило только заглянуть в "Malleus maleficarum", чудовищный кодекс Якоба Шпренгера, позволивший церкви отправить на костер тысячи некромантов и колдунов,-- и дез Эссент узнавал в шабаше все непотребство и кощунство садизма. Но, помимо мерзостей на радость лукавому -- ночей совокупленья, ночей, поочередно посвященных то блуду "дозволенному", то извращенному, --дез Эссент различал тут помимо звериной случки, еще и нечто иное: пародию церковной службы. Бога хулили, оскорбляли, сатане молились и, проклиная священные хлеб и вино, служили черную мессу на спине стоявшей на четвереньках женщины. Ее обнаженное, полное скверны тело было алтарем, а его служители причащали, для пущего смеха, черной облаткой с изображением козла.
Грязных насмешек и сальностей был исполнен маркиз де Сад. Кощунственными оскорблениями сдабривал он свои рискованно-сладострастные описания.
Де Сад хулил небеса, взывал к Люциферу, называл Бога ничтожеством, злодеем, глупцом, плевал на причастие и поносил его, силился осквернить и проклясть Божественную природу Господа и, наконец, объявлял, что таковой нет вовсе.
Подобное душевное состояние лелеял в себе и Барбе д'Оревильи. Правда, в хуле и проклятьях Спасителю он не зашел так далеко, как де Сад. Из осторожности ли, из страха, но он уверял, что чтит церковь. И тем не менее взывал к сатане, из кощунства впадал в бесовскую эротоманию, придумывал различные чувственные пакости и даже позаимствовал из "Философии в будуаре" некий эпизод для своего "Обеда атеиста", добавив в него еще большую пряность.
Дез Эссент буквально упивался этой бесстыдной книгой и издал, "Дьявольские лики" в одном экземпляре, в переплете епископско-лилового цвета, на настоящем пергаменте, освященном церковью, с кардинальско-пурпурной каймой на каждой странице и изысканным шрифтом: кончики у букв раздваивались хвостиками и коготками, в завитках которых проглядывало нечто сатанинское.
За исключением некоторых бодлеровских вещей, вторивших песнопениям шабашей и черных месс, книга Барбе была единственной среди всей современной литературы, обнаруживавшей то одновременно благоговейное и нечестивое состояние духа, в котором пребывал дез Эссент в результате невроза и кризиса веры.
На Барбе д'Оревильи церковные книги в библиотеке дез Эссента заканчивались. Да и этот пария, по правде, хотел того или нет, принадлежал скорее светской литературе, нежели тем сферам, куда намеревался проникнуть и откуда изгонялся. Его неистребимо романтический язык переполняли необычные обороты, совершенно невозможные слова и сравнения. Он взмахивал фразой, как хлыстом, а та гремела, как звонкий колокольчик. Иначе говоря, среди меринов, переполнявших ультрамонтанские конюшни, Барбе д'Оревильи был явным племенным жеребцом.
Дез Эссент размышлял об этом, когда перечитывал куски из Барбе, сравнивая этот нервный и пестрый слог с безжизненным и тусклым слогом его собратьев по перу, и думал об эволюции, столь верно замеченной Дарвином.
Пройдя школу романтизма и выйдя в люди, Барбе был связан с новейшей литературой, знал всю ее кухню. Он не мог не писать на языке, который пережил столь сильное и глубокое обновление.
Церковные же писатели сидели взаперти, в четырех стенах, за древними фолиантами, не зная и не желая знать ничего о том, в каком направлении развивалась словесность. И писали они на мертвом языке, словно те потомки французов, поселившихся в Канаде, которые бегло говорят и пишут по-французски, но их французский остается языком 18-го века: ничто не изменилось в их наречии, изолированном от прежней метрополии и попавшем в сплошное англоязычное окружение.
Между тем серебристый колокольчик отзвонил Angelus и призвал дез Эссента к обеду. Он захлопнул книгу, смахнул пот со лба и пошел в столовую, говоря себе, что из всех просмотренных им книг сочинения Барбе были единственными, идеи и стиль которых несли в себе семена того распада, ту атмосферу перезрелости и сладкого тлена, которыми нежил себя дез Эссент при чтении и языческих и церковных декадентов былых времен.
ГЛАВА XIII
Погода становилась все хуже. С недавних пор все времена года смешались. Туманы и ливни уступили место раскаленному небу, сверкавшему на горизонте, как кровельное железо. В два дня, без всякого перехода, ледяная сырость тумана сменилась иссушающим зноем. Воздух был невыносимо тяжел. Солнце, словно разворошенное кочергой пламя в топке, вспыхнуло и излучало жгучий, слепящий свет. Тучи огненной пыли поднялись над обожженными дорогами, испепеляя сухую листву и жухлые травы. В глазах рябило от белизны стен, оцинкованных крыш и оконных стекол. В доме дез Эссента было жарко, как в плавильне.
И без того едва одетый, дез Эссент открыл окно. Прямо в лицо ему ударило печным жаром. В столовой, куда он вошел, нечем было дышать, воздух раскалился до предела и почти кипел. Дез Эссента оставили силы, и он тоскливо рухнул на стул: столь приятно поддерживавшее его во время грез и рассматривания книг возбуждение прошло.