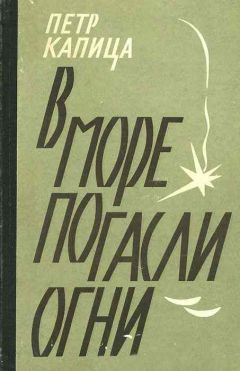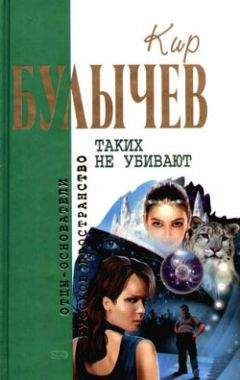Мария Романушко - Наши зимы и лета, вёсны и осени
– Сын очень любит вас. Он так переживал, что вы задержались. Сидит и твердит: «Только бы ничего не случилось! Только бы ничего не случилось!»
– Что же со мной могло случиться, сынок?
– Не знаю… – выдохнул ты еле слышно.
По дороге домой.
– Ты почему так долго не шла?
– Я ездила по делам, сынок.
– По каким делам?
– Искала работу.
– У тебя же есть работа, твои рецензии.
– Но ты же знаешь, какая это ненадежная работа: сегодня – есть, завтра – нет, послезавтра – неизвестно… Я устала от этой постоянной неизвестности.
– А ты какую работу хочешь?
– Ох, Антоша… Какую хочу, я вряд ли найду. Хотела бы в издательстве где-нибудь, редактором. Хорошо бы не каждый день, конечно. Чтобы оставалось время на нашу жизнь…
Вечером, после ужина, мы делали гербарий, пришивали к альбомным страницам листья и цветы, собранные и засушенные тобой за это лето, уже прошедшее… Неожиданно ты схватил мою руку и несколько раз лизнул её.
– Ты что, Антончик?
– Я тебя облизываю – потому что на всех планетах так проявляется любовь.
– Дурачок ты.
– Ничего не дурачок. Я тебя лижу – и в меня сразу вскакивает двести миллиардов витаминов!
Потом ты рисовал, как всегда – шариковой ручкой, упорно не признавая ни красок, ни цветных карандашей. Рисовал и делал пояснения к рисункам:
– Это – космос огромных планет и крошечных солнц. Это – солнечная система без солнца, и поэтому вместо планет такие блины без атмосферы…
Утром по дороге в сад.
– Ты опять едешь по делам?
– Опять.
– Приходи за мной пораньше.
– Я постараюсь.
Глаза твои наливаются слезами…
– Ну, что ты, милый?
– Я не хочу в сад.
– Не хочешь? Почему?
– Там… невкусно.
– Ну, миленький, надо привыкать.
– Я никогда не привыкну! – с тихим отчаяньем воскликнул ты.
– Ну, что ты, милый, ну, что ты! Другие ребята привыкают, и ты привыкнешь. Постепенно…
Дети гуляли во дворе. Ты пошёл к своей группе и остановился поодаль, грустно нахохлившись…
– Мне нужно поговорить с вами, – сказала, подходя ко мне,
Евдокия Васильевна, пожилая строгая воспитательница. Эта женщина, казалось, не умела улыбаться, и ты с первых же дней стал её побаиваться.
– Вы знаете, Антон ничего не ест, – сказала она строгим голосом.
– Как? Совсем? А он говорит: ест…
– Ну, разве это еда? Только хлеб да булочку какую-нибудь за весь день. Ну, и пьет ещё: компот и чай, а от кофе отказывается, наотрез. – Понимаете, он ещё не привык. Он ведь домашний ребёнок…
– Я всё понимаю, но вынуждена его заставлять. Он и так у вас худенький.
Она смотрела на меня сурово и осуждающе, и я почувствовала, что съеживаюсь под её взглядом, робею.
– И вообще, он у вас странный, – сказала она жестко, будто бы ставя диагноз.
– Почему странный?
– Он, конечно, мальчик развитой, я бы сказала: даже слишком. Но лучше бы он в футбол с мальчишками играл. Говорю ему: «Иди играть в футбол», а он мне отвечает: «А зачем? В какой футбол?» Ребята в войну играют, а он опять: «А зачем?» Нельзя же всё время только книжки читать!
– Но не всем же детям играть в футбол.
Она смотрела на меня осуждающе.
– Не удивляйтесь, если его начнут бить, – сказала она.
– Бить?… За что?!
– Слишком уж он беззащитный у вас… Таких всегда бьют.
«Таких всегда бьют…» – звучало у меня весь день в ушах.
Пять часов в прокуренной приёмной.
– У меня есть шанс попасть сегодня к директору?
– Хотите дождаться – ждите. Я доложила о вас.
– Но через пятнадцать минут конец рабочего дня…
Секретарша пожала плечами и ничего не ответила.
Тут распахнулась дверь кабинета, и в приемную вышел директор, уже в плаще и шляпе.
– Геннадий Васильевич, к вам тут женщина.
Он с досадой взглянул на меня.
– Заходите! Только быстро.
Он вбежал в кабинет, я за ним. Не снимая плаща и шляпы, присел на край стола, мне указав на стул.
– Ну, что у вас? Только в двух словах, я спешу.
– Мне нужна работа.
Он мельком взглянул на анкету, которую я положила перед ним.
– Хотите откровенно? – сказал он.
– Да, только так, пожалуйста.
– У меня есть вакансия. И не одна. Но я вас не возьму.
– Почему?
– Я вас не знаю. Вы для меня – человек с улицы.
– Но, если вы не возьмете меня на работу, вы так и не узнаете меня.
– Согласен. Но у меня есть люди, которые годами ждут места. Ходят, напоминают о себе, мелькают… Вы-то откуда взялись? Где вы были раньше?
– Растила сына. Мне некогда было мелькать.
– Так у вас, к тому же, ребёнок?
– Да, сын.
– Так… Одинокая женщина с ребёнком. Конечно, беспартийная? Я так и думал. Ребенок будет болеть, бюллетени и тому подобное…
– Наверное, вы в детстве тоже болели?
Он посмотрел на меня, не понимая.
– Кстати, а почему вы пришли именно в моё издательство? – спросил он. – Почему бы вам не сходить в «Детгиз» или в «Молодую гвардию»? Насколько мне известно, там нуждаются в хороших редакторах.
– Там я уже была.
– Сочувствую вам. Но… – он развел руками. – Впрочем, звоните. Со временем, может быть… Появляйтесь, мелькайте!
Вышла на улицу – в пасмурную окраину, в обшарпанность мокрых палисадников.
В пасмурную очередь на автобусной остановке. В душную, пахнущую осенней сыростью, давку метро. В тысячеликое одиночество часа «пик».
В тягучесть обратной дороги в конце пустого дня… Сколько от этой конторы до нашего дома? Полтора часа. Итак, три часа уходило бы на одну только дорогу! Плюс восемь часов в издательстве. Итого, одиннадцать. Когда бы мы виделись с тобой, сынок? Выходит, на жизнь – на нашу с тобой жизнь – совсем не оставалось бы времени? Нет, такой работы нам не надо…
Ты встретил меня у самых ворот с охапкой жёлтых листьев.
– Слушай стишок, мамася!
Все ходят с букетами,
Огромными цветами!
Все ходят с букетами,
Огромными цветами!
– И ещё слушай:
Любовь Петровна плюс Евдокия Васильевна
Получается Любокия Петросильевна!
– Отличные стишки, Антончик.
Мы смеёмся. И тоска и безнадёжность этого дня отпускают меня…
– Ну, как ты сегодня? Ел что-нибудь?
– Полудничал. Пирожок с замазкой. Замазку выкинул, а пирожок съел. В обед хлеб и компот ел.
– А утром?…
– Утром? Воспитательница говорит: скорей пейте все кофе!
– Ну, и как, пил?
– Пил, – неуверенно говоришь ты. – Такие серенькие помои с мусоринками.
– Так уж и помои?
– Очень похоже. Такой цвет некрасивый…
– А чем вы занимались? – перевожу я разговор на другое. – В какие игры играли?
– Занятия математические были. Смешные очень.
– Почему смешные?
– До пяти учили считать! К двум картоновым яблокам прибавляли три картоновые груши! Любовь Петровна всё объясняет, объясняет, а ни у кого не получается… Потом она сказала: устала я от вас! Антон, сосчитай им. Ну, я сосчитал… до пяти миллионов! – ты смеёшься. – Шучу, конечно. Потом книжку ребятам читал.
– Какую?
– Сказки разные. Про начальника злости.
– Про кого?!
– Про Кащея.
Подумав, сказал:
– А можно было не убивать Кащея, а перевоспитать. Тоже хороший рецепт. А ещё я тебе письмо написал! И вот, подарок тебе, – ты протягиваешь помятый спичечный коробок.
Читаю письмо:
«Милая моя мамочка Романушко!
Я тебе подарил спичечный коробок, не потеряй ево, он – обо мне на память. Я люблю тебя очень сильно, ты чувствуешь? Но мамочка, ты ещё подскажи мне, хочешь ли ты, чтобы я тебя сфотографировал опаратом «Огонек», и ещё я тебя целую, и передаю привет из страны невидемых городов. Целую. Антон."
– Конечно, хочу, – сказала я. – Спасибо, миленький, и за подарок, и за письмо такое чудесное. Я тоже о тебе весь день думала…
– А почему ты грустная?
– Устала, сынок. Я сегодня пол-Москвы объездила, где только ни была…
– Нашла работу?
– Нет.
– А когда найдешь?
– Не знаю…
За ужином ты судорожно хватал чёрный хлеб с маслом, умял два омлета, и никак не мог наесться. Отвалившись от стола, запел:
Мой сыночек рыжий
Съел кусок Парижа!
Мой сыночек жёлтый
Съел кирпичик тертый.
Мой сыночек сладкий
Съел ботинок гладкий…
Ты похудел за две детсадовские недели, нос заострился, под глазами залегли тени, которые не исчезали даже ночью, во сне. Даже во сне вид у тебя был уставший и грустный.
Укладывая тебя спать, заметила, что твои ноги, от щиколоток и до самых колен, в синяках.
– Антон, ты почему весь в синяках?
– В саду так много углов… – нехотя ответил ты.