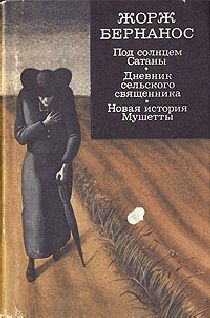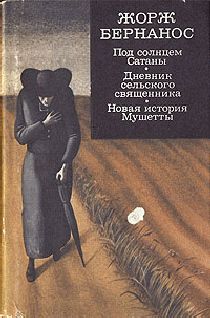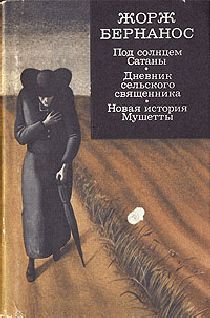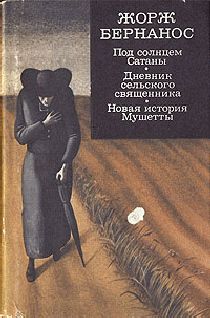Жорж Бернанос - Дневник сельского священника
- Не говорите о вашей матери. Вы ее не любите. И даже...
- Не бойтесь, договаривайте до конца, - да, я ее ненавижу, я всегда ее нена...
- Замолчите! Увы! Во всех домах, даже христианских, водится незримое зверье, бесы. И самый свирепый из них поселился в вашем сердце, давно уже, только вы об этом не ведали.
- Тем лучше, - сказала она. - Я хотела бы, чтобы этот зверь был гнусен, омерзителен. Я потеряла уважение к отцу. Я больше ему не верю, а на остальное мне плевать. Он мне изменил. Дочери можно изменить, как изменяют жене. Это не одно и то же, это хуже. Но я отомщу. Я удеру в Париж, я себя обесчещу и напишу ему: "Вот что вы со мной сделали!" И он будет страдать, как страдаю я сейчас.
Я на минуту задумался. Мне казалось, я читал на ее устах, пока она говорила, другие слова, которые не были произнесены, но одно за другим вписывались огненными буквами в мое сознание. Я вскричал, не помня себя:
- Нет, вы этого не сделаете. Вас искушает иное, я знаю!
Она так задрожала, что вынуждена была опереться на стену обеими руками. И тут опять случилось нечто такое, о чем я тоже только рассказываю, не пытаясь объяснить. Мне кажется, мои слова были сказаны наугад, по наитию, но в то же время я был уверен, что не ошибаюсь:
- Отдайте мне письмо, оно здесь, у вас в сумке. Сию минуту отдайте!
Она даже не пыталась возражать, только глубоко вздохнула и, пожав плечами, протянула мне лист бумаги.
- Вы сам дьявол! - сказала она.
Мы вышли из церкви почти спокойным шагом, но я еле держался на ногах, сгибаясь от боли в животе, о которой в последнее время почти забыл думать. На этот раз она была сильнее, ужасней, чем когда-либо прежде. Мне пришло на ум одно выражение бедного старого доктора Дельбанда: "Сверлящая боль". Она меня и в самом деле сверлила. Я вспомнил барсука, которого г-н граф у меня на глазах пригвоздил к земле рогатиной: пронзенный насквозь, он издыхал в канаве, оставленный даже собаками.
Мадемуазель Шанталь, впрочем, не обращала на меня никакого внимания. Она шагала между могилами, опустив голову. Я едва осмеливался смотреть на нее, письмо я держал в руке, и время от времени она бросала на него странные, косые взгляды. Мне было трудно поспевать за ней, каждый шаг стоил мне усилий, я до крови закусил губы, чтобы не застонать. Наконец я рассудил, что упорствовать далее в борьбе с болью было бы гордыней, и попросил м-ль Шанталь остановиться на минуту, потому что у меня больше нет сил.
Сейчас я, возможно, впервые глядел в лицо женщине. Нет, разумеется, я никогда сознательно не избегал этого, и случалось, даже находил какое-нибудь женское лицо приятным, но, хотя я и не разделяю чрезмерной щепетильности некоторых моих товарищей по семинарии, мне слишком хорошо известно людское лукавство, поэтому обычно я сдержан, как и подобает священнику. Но сегодня верх взяло любопытство. Оно было, думаю, сродни любопытству солдата, рискующего вылезти из своего окопа, чтобы увидеть наконец врага в лицо, или еще... Мне вспоминается, как лет семи-восьми я сопровождал бабушку к ее умершему кузену и, оставшись в комнате один, приподнял саван, чтобы вот так взглянуть на лицо покойника.
Есть лица чистые, излучающие чистоту. Таким было некогда, без сомнения, и лицо, которое я видел перед собой. Но сейчас в нем появилось что-то замкнутое, непроницаемое. Чистоты уже не было, однако ни гнев, ни презрение, ни стыд еще не смогли стереть с него таинственного знака. Они только корчили рожи. Необычайное, почти пугающее благородство этих черт говорило о силе зла, греха, чуждой ей силе... Боже! Неужто мы так ничтожны, что бунт гордой души может обернуться против нее самой!
- Вы напрасно стараетесь, - сказал я ей (мы находились в самой глубине кладбища, неподалеку от калиточки, которая выходит на Казимиров загон, в запущенной части погоста, где трава так высока, что могилы, заброшенные уже на протяжении целого столетия, под ней совсем неразличимы), - другой, может, и вовсе не стал бы вас слушать. Я вас выслушал, пусть так. Но я не принимаю вашего вызова. Бог вызовов не принимает.
- Верните мне письмо, и я буду считать, что мы квиты, - сказала она. Я сама сумею себя защитить.
- Защитить от кого, от чего? Зло сильнее, чем вы, дочь моя. Или вас настолько обуяла гордыня, что вы считаете себя недосягаемой?
- Во всяком случае, для грязи, если я этого захочу, - сказала она.
- Вы сами из грязи.
- Слова! Может, ваш Бог теперь запрещает любить своего отца?
- Не произносите слова "любовь", - сказал я, - вы утратили на нее право, да, наверно, и способность. Любовь! Миллионы людей во всем мире просят ее у Господа Бога, готовы выстрадать тысячу смертей, чтобы в их иссушенный рот упала капля воды, той воды, в которой не было отказано самаритянке, но о которой они молят втуне. Вот я...
Я вовремя остановился. Однако она, должно быть, поняла, мне показалось, она потрясена. Правда, хотя я и говорил очень тихо - а может, именно поэтому - усилие, которым я держал себя в руках, вероятно, сообщило моему голосу особое выражение. Я чувствовал, что он как бы дрожит у меня в груди. Эта молодая девушка, наверно, сочла меня безумным? Она старалась не встречаться со мной глазами, и мне чудилось, я вижу, как ширятся темные провалы ее щек.
- Да, - снова заговорил я, - сохраните для других оправданья такого рода. Я всего лишь бедный священник, недостойный и несчастный. Но я знаю, что такое грех. А вы не знаете. Все грехи похожи, все они - единый грех. Я перед вами не мудрствую. Эти истины доступны самому последнему христианину, буде он захочет воспринять их от нас. Мир греха противостоит миру благодати, как опрокинутое отражение пейзажа на глади глубокого и темного водоема. Грешники сопричастны друг другу. Их притягивает, объединяет, сплачивает, слепляет взаимная ненависть, взаимное презрение, и грядет день, когда все они предстанут перед взором Всевечного озером липкой грязи, по которому втуне прокатываются гигантские валы божественной любви, этот океан живого ревущего огня, некогда оплодотворивший хаос. Кто вы такая, чтобы осудить чужой проступок? Тот, кто осуждает проступок, с ним соединяется, совокупляется. Вы ненавидите эту женщину, считаете, что вы не такая, как она, а между тем ваша ненависть и ее грех подобны двум побегам от одного корня. Чего стоит ваша ссора? Жесты, вопли, не больше - сотрясение воздуха. Смерть все равно скоро сделает вас обеих недвижными, безмолвными. К чему все это, если вы уже объединились во зле, попали все трое в ловушку одного греха - одной грешной плоти, вы - соумышленники, да, соумышленники! И пребудете ими во веки веков.
Наверно, я очень неточно передаю собственные слова, так как память моя не сохранила почти ничего определенного, кроме перемен ее лица, на котором, как мне казалось, я их читал.
- Довольно! - сказала она глухим голосом. И только ее глаза не просили пощады. Никогда я не видал, да и не увижу, наверно, такого неумолимого лица. И, однако, я предчувствовал почему-то, что это - самое отчаянное, самое последнее ее усилие противоборствовать Спасителю, что грех выходит из нее. Чего стоят все разговоры о молодости, о старости? Разве страдальческое лицо, которое я видел перед собой, не было еще несколько недель тому назад совсем детским? Теперь я не смог бы определить его возраста, а может, у него и в самом деле не было возраста? У гордыни нет возраста. Да и у страданья тоже, в конце концов.
Она ушла, не проронив больше ни слова, внезапно, после долгой паузы... Что я наделал!
Вернулся очень поздно из Обена, где мне нужно было навестить после ужина больных. Нечего и пытаться уснуть.
Как я дал ей уйти в такую минуту? И даже не спросил, чего она ждет от меня.
Письмо все еще у меня в кармане, но я только сейчас прочел надпись на конверте: оно адресовано г-ну графу.
Боль в глубине живота "сверлит" все так же, отдает даже в спину. Непрерывно мутит. Я почти счастлив, что не могу думать: лютая боль отвлекает от душевной тоски. Вспоминаю норовистых коней - мальчишкой я ходил смотреть, как их подковывает кузнец Кардино. Как только вымокшая в крови и пене веревка стягивала их ноздри, бедные животные смирялись, прижав уши и дрожа на своих высоких ногах. "Ну что, получил свое, дурачок!" - говорил кузнец с громким хохотом.
Вот и я тоже - получил свое.
Боль вдруг прошла. Она была, впрочем, такой неотступной и ровной, что я, вдобавок донельзя утомленный, почти задремал. Когда она отступила, я вскочил - в висках у меня стучало, но сознание было чудовищно ясным - с ощущением, с уверенностью, что слышал, как меня окликнули...
Лампа еще горела на столе.
Я обошел сад: ни души. Я знал, что никого не найду. Все до сих пор кажется мне сном, но каждая его подробность встает передо мной с необычайной отчетливостью, словно освещенная внутренним светом, каким-то ледяным озарением, не оставляющим ни одного темного угла, где я мог бы укрыться, чтобы обрести хоть каплю покоя... Наверно, так видит себя человек по ту сторону смерти. Господи, что я наделал!