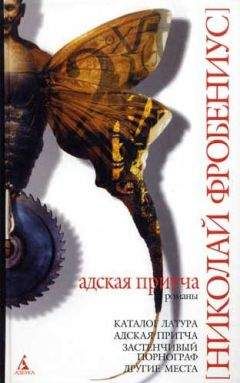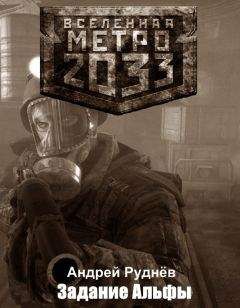Николай Фробениус - Лакей маркиза де Сада, или Каталог Латура
Нервы - это помощники и гонцы мозга. Их нелегко разглядеть, но без них мозг всего лишь машина, которой нельзя пользоваться.
Я произвожу вскрытие в долине. Мне кажется, что я нашел нерв, который ведет к центру боли. Я работаю осторожно и медленно, рассматриваю обнажившийся нерв. Я чуть не потерял его, однако все-таки не потерял. Теперь центр боли совсем близко. Начинает смеркаться. Мне не хочется думать об этом. Но за час уже настолько стемнело, что я допускаю ошибки. Торопиться нельзя. Надо работать точно. У меня сводит руку.
Нерв - это тропинка. Я нетерпеливо иду по ней. Сердце стучит.
Солнце давно скрылось. Скальпель рассекает ткань вокруг нерва, перерезает ее и артерии.
Я лежу на спине на болотистой почве равнины. Влага проникает сквозь рубашку. Надо мной темное облако. Вскоре начинается дождь. Я чувствую капли на лице.
Бесконечно усталый, я иду через лес к дому моего господина.
Не думаю, чтобы кто-нибудь сумел понять, что я бросил. Охотник или какой-нибудь любитель-ботаник, который найдет на земле эти четыре столба, не поймет, что тут разыгралось. Скорее всего, он примет их за ловушку на какого-нибудь крупного зверя. И, только дав себе труд раскопать болотистую почву, он найдет останки человека. Еще он увидит кучку золы, оставшейся от сгоревшей одежды графа. Может быть, он даже догадается о смертельной боли, испытанной кем-то на этом месте. Может быть, но вряд ли. Что касается меня, то говорить больше не о чем. Расчет произведен. Но мне не повезло.
***
Маркиз ведет себя странно. Он совершает долгие верховые прогулки, и его часто не бывает дома. Осторожности, которую он по необходимости превратил в добродетель, как не бывало. Он перестал бранить и шпынять меня. Но все смотрит, смотрит, смотрит, и такого взгляда я у него прежде не видел. По ночам он сидит и пишет. Меня он избегает. Может, вбил себе в голову, будто я виноват в отъезде Анны-Проспер?
Однажды утром я нахожу его в постели, он весь в испарине. Его мучают сильные боли, мне не потребовалось много времени, чтобы обнаружить у него на животе нарыв. Я еду в гостиницу "Пом д'Ор" и узнаю там, что поблизости живет прекрасный хирург. Уговариваю его срочно поехать к нам домой. Он пускает маркизу кровь.
Десять дней я ухаживаю за маркизом. Он бредит. Его слова пугают меня. Он говорит о том, чего не должен знать. Я даже подозреваю, что он шпионил за мной. Не спускал с меня глаз.
У меня начинается лихорадка. Я сижу у кровати маркиза, с меня течет пот, я то и дело засыпаю. Мы оба бредим. Постепенно ему становится лучше, моя лихорадка тоже проходит.
***
В окно кухни я увидел, как из-за деревьев выехали всадники. Окутанный ароматом вареного языка и подслащенного миндаля, я смотрел на лес, как будто ждал их. Кухарка жаловалась мне, что у нас нет перца и муската для соуса, а также хлеба, но голос ее звучал где-то далеко. Три всадника подъехали к дому. Майор в блестящих сапогах соскочил с лошади и быстрым шагом направился к двери. Я побежал в комнату маркиза, чтобы предупредить его. Но он жестом отослал меня прочь. У него не было сил бежать.
Майор де Шаван и два его адъютанта настороженно наблюдали за нами. Майор объявил, что граф де Мезан арестован. По просьбе мадам де Монтрёй королевский министр иностранных дел герцог д'Эгийон просил посла Сардинии в Париже арестовать маркиза и продержать под арестом неопределенное время. Маркиз чертыхается. Лицо его непроницаемо. Плотная фигура походит на крепость. На стену, воздвигнутую против внешнего мира. Наутро нас отвезли в крепость Миолан.
- Я арестован за не совершенное мною преступление! - кричал маркиз на адъютантов.
- Будет ли хотя бы суд?
- Что это за государство, которое арестовывает невинных граждан, даже не выслушав их объяснений? Какие еще бесчеловечные деяния числятся на совести сардинского правительства?
Но все это было гласом вопиющего в пустыне, мне он сказал:
- Хуже уже ничего не может случиться.
Крепость Миолан высилась на отвесном горном уступе в восемнадцати километрах от Шамбери. В трехстах метрах под нею раскинулась долина Изера. Тюрьму окружали три стены и два рва. Камера маркиза находилась в башне посреди замка. Эта башня служила одновременно и тюрьмой, и квартирой коменданта. Окна камеры выходили на юг, из них была видна долина и одетые снегом Альпы.
Темный каменный пол испещрен полосками падающего из окна света. Темные каменные стены. Открытый очаг. Это наша привилегия. Признание сардинским правительством дворянского происхождения маркиза. Через несколько дней нам наконец оказывают снисхождение: мне разрешили прислуживать в тюрьме моему господину, я мог даже уходить, под охраной разумеется, чтобы выполнять его поручения.
***
Конечно, я заслужил наказание и должен был бы понести его вместо маркиза. Но получилось иначе. Я нахожусь здесь за его так называемые преступления, а не за свои. Теперь я понимаю, что преступления не существует, пока оно не осуждено законом.
Тела, которые служили материалом в моей научной работе, я считаю моими. Существует ли единый неписаный закон, обязательный для всех людей? Если существует, то я, безусловно, нарушил его. Но каково должно быть наказание за нарушение неписаного закона?
Вскрытие графа до сих пор не дает мне покоя. С научной точки зрения оно было плохо подготовлено. Я критически отношусь к своей технике и думаю, как мне ее улучшить. Но меня мучит не только это. Однако, что именно, не понимаю. Что-то во всей той ситуации тревожит меня. Долина, граф, лошадь, сумерки. Каждый раз, когда я вспоминаю тот день, у меня появляется неприятное ощущение в затылке.
Мой господин бранится, рвет и мечет, гневается по малейшему поводу. Постоянно жалуется на коменданта де Лоне. Пишет длинные гневные письма правительству Сардинии, высмеивает тюремщиков, их непроходимую тупость. Я пытаюсь придумать для него разные планы бегства, но это не может утешить его.
Во время ежедневных прогулок вокруг башни Сен-Пьер, вдоль крепостной стены с бойницами, мимо подземной камеры, откуда доносится вой сошедшего с ума узника, потом по тропинке к огороду и оттуда мимо капеллы в Нижней башне через площадь обратно в камеру маркиз проклинает "этих сумасшедших преступников, которые держат его взаперти". Он харкает и плюется.
- Они еще подлее, чем продавцы тухлого тунца в Эксе. Они служат палачам. Презрение мадам президентши настигает меня даже здесь, Латур, они шлют мне глупые, злобные письма, словно я не люблю своих детей и Рене, словно я никогда не любил своих родителей. Неужели я такое чудовище лишь потому, что немного развлекся с продажной девкой? Разве я не заслуживаю жизни?
Я кладу руку на плечо маркиза, здесь, в крепости, мы одинаково значительны или одинаково ничтожны, и говорю:
- Вы лучшее из всего, что было и есть во Франции.
Два раза в неделю мне приходится ездить в Шамбери, чтобы привезти маркизу то, что ему необходимо: одеколон, померанцевую туалетную воду, ванильные пастилки, чернила с бумагой, бренди, стеариновые свечи, лекарства. Мне не нравятся эти прогулки на свободу. Я стараюсь не смотреть на людские тела. Почти ни с кем не разговариваю. Предпочитаю оставаться в крепости. Мне нравится тюремная жизнь.
Независимо от того, чего и сколько я привожу, мой господин одинаково недоволен. Я пытаюсь найти в нем хоть малейшие признаки оптимизма и не нахожу. Он продолжает ныть. Его мучают головные боли, боли в груди, нарывы, ему нужны все новые и новые лекарства.
Говорит он не умолкая. Злится и готов взорваться от любых слов, объяснений, анекдотов. Он негодует на Божию злобу, на природные "молекулы злобы" и свою порочность, словно она досталась ему от рождения, а не усвоена им добровольно. Маркиз пытается оправдать себя разумными доводами: содеянное им - не преступление. По-моему, он живет в плену ходящих о нем слухов.
Я лежу и мечтаю в этом мире из камня. О том, что меня ждет в Париже. О телах номер пять, шесть и семь. Тело номер восемь лежит и дышит здесь, рядом со мной. Но мне не хочется думать об этом.
Лицо маркиза искажает гримаса боли. Настоящей или придуманной? Он всегда играл с болью. По ночам мы беседуем о домах терпимости, о женщинах. Он говорит о женской жестокости; по его мнению, общество выиграло бы, если бы женщины чаще пороли своих мужей. Тогда оно было бы избавлено от женского яда, отравляющего других людей. Он говорит о боли. Этому безумному дворянину на тюремной койке мнится, будто он деспот, страдающая плоть доставляет ему наслаждение. Меня тошнит от его болтовни.
Я засыпаю под звук его голоса.
И вижу сны в этом мире из камня.
Однажды утром я просыпаюсь от стонов маркиза. Поворачиваюсь на своей скамье. Передо мной его широкое лицо. Ему больно. Даже в темноте я вижу на его лице гримасы боли. Это особый язык, единственный, какой я знаю.
***
Как-то утром один итальянец попытался бежать. Стража схватила его, когда он перелез уже через вторую стену. Узники стояли у своих окон и слышали, как он кричал, когда его тащили назад. Потом над крепостью Миолан воцарилась тишина.