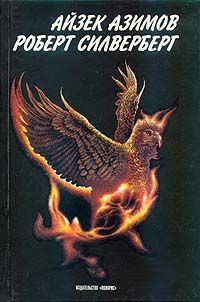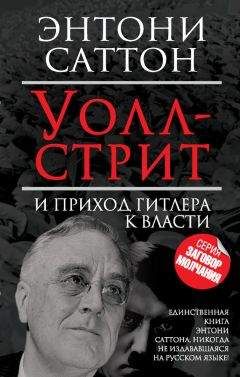Родди Дойл - Падди Кларк в школе и дома
Велосипеды по-прежнему были незачем. Мы ходили и бегали. Удирали. Самое лучшее в любом хулиганстве — это удирать. Дразнили сторожей, кидались в окна камнями, играли в постукалочку — и удирали. Барритаун был весь наш. Навечно. Целое государство.
Царством велосипедов стал Приморский.
Кататься я не умел. Умел перекинуть ногу через седло, поставить на педаль, нажать — и всё. Не едется, не стоится неизвестно почему, а вроде всё делаю правильно. Я разогнался, вскочил в седло и рухнул, заранее зная, что рухну. Я перетрусил и сдался. Завёл велосипед в гараж. Папаня рассердился, но мне уже было наплевать.
— Тебе кто подарил этот велик? Санта-Клаус! Осталось научиться ездить на драндулете этом чертовом!!
Я не отвечал.
— Этому учишься, — с отчаянием сказал папаня, — Всё равно, как ходить.
Ходить-то я умел. И попросил папаню показать, как кататься на велосипеде.
— Будет время, — ответил он.
Я сел на велосипед; папаня придерживал багажник, а я крутил педали. Вперёд-назад. Вперёд-назад. Папаня думал, я наслаждаюсь, а я ненавидел этот велик. Стоило ему отпустить багажник, я покорно падал.
— Крути педали, крути педали, крути педали…
Я падал. Падал не по-настоящему, просто сползал с велосипеда или спускал на землю левую ногу. Папаня совсем расстроился и со словами «Не стараешься» забрал у меня велосипед.
— Давай лезь в седло.
Легко говорить «лезь в седло», а как? Велик-то у него. Папаня смекнул это, отдал мне велик. Я встал. Папаня молча взялся за багажник. Я крутил и крутил педали. Мы покатили по саду. Я набрал скорость, чего бояться, папаня же держит. Оглянулся — нет никого. Сразу рухнул, но ведь до того сколько сам проехал! Значит, могу. Значит, папаня не нужен. Значит, ну его, папаню.
Папаня и ушёл домой.
— Скоро настропалишься, — бросил он напоследок. Сам устал, наверное, и заленился.
Я не падал. Раньше доезжал до ворот, слезал, поворачивал велосипед, снова садился. А теперь сам поворачивал, не падая. Три круга по саду. Чуть не врезался в изгородь. Но не падал.
Мы правили в Приморском. Разбивали лагерь на крышах гаражей, разводили костры, несли дозор, готовились отразить нападение. В Приморском были другие мальчики, в основном младше, настоящие сопляки. Наши ровесники тоже оказались сопляками. Мы поймали одного мелкого и взяли его в заложники. Мы загнали его на конёк крыши, потом окружили, прижали к скату и надавали пенделей. Я размазал его по стенке.
— Если твои будут мстить, тебе конец, — угрожал ему Кевин.
Мы держали его в плену десять минут. Заставляли прыгать с крыши. Он не разбился, и вообще ничего особенного не случилось. Мстить никто не приходил.
Особенно здорово выходило в Приморском играть в постукалочку. Ночью. Ни заборов, ни изгородей, ни садиков настоящих. Ряд дверей со звонками. Плёвое дело. В конце каждого ряда поворот или переулок. Удрать ничего не стоит. Но самая сила — второй раз позвонить в одну и ту же дверь. Наш рекорд был семнадцать. Семнадцать раз звонили и успели убежать! В одном доме не было звонка, и я стучал в дверное стекло. Под конец кружилась голова. Мы играли по очереди: сперва я, потом Кевин, Лайам, Эйдан и снова я. Какая весёлая лихорадка: начинать игру по новому кругу и не знать, где та дверь, за которой тебя караулят.
— Уехали, наверное.
— Да нет, — сказал Кевин, — они все дома.
— Почём ты знаешь
— Дома, дома, — подтвердил я, — Видел я.
Холодало. Я опять напялил рубашку и свитер.
— Уже утро?
— Непросыпальное.
Я никогда не бередил ссадины и болячки. Никогда не спешил. Дожидался, пока она не заживёт а корочка не оттопырится над коленом. Тогда болячка сходит чистенько и легко, крови под ней нет, только розовая новая кожа. Это значит, что коленка зажила. Болячки, или струпья, состоят из так называемых кровяных телец. В крови тридцать пять биллионов различных кровяных телец. Запекаясь, струп помогает организму не истечь кровью до смерти.
И, если веки слипались, я тоже их не ковырял, а оставлял как есть, и глаз переставал открываться. По утрам такое случается. Один глаз аж к подушке прилип. Маманя считала, что это от сквозняков. Я перевернулся на спину и занялся больным глазом. Маманя называла это «сплюшки» и тщательно промывала полотенцем, когда я прибежал к ней со слипшимися веками первый раз. Теперь ни за что к ней не побегу. Так и стану ходить. Я полежал. Когда маманя устала звать нас к завтраку и прикрикнула, вылез из постели, оделся. Снова проверил глаз. Пооткрывал веки пальцами. Слиплись не надо крепче и засохли. Я оделся, сел на постели и аккуратно потрогал глаз, вокруг глаза и в уголках. Начав со внешнего уголка, аккуратно, кончиком пальца сдёрнул корочку и прозрел. Думал, на пальце останется плотная корка, а там всего ничего, какие-то легкие хлопья. Веки раскрылись, и на глазное яблоко пахнуло холодом. Так что я протёр глаз, и он открылся. Разглядывал потом в зеркале в ванной — глаза как глаза, ничего особенного.
Синдбад ничего не замечал. Между бранью и слезами были большие перерывы, во время которых он всё забывал. Спокойно — значит, всё в порядке; так он, дуралей, рассуждал. Это такой малец: нипочём не признает, что неправ, даже когда положишь его на обе лопатки.
Как мне было одиноко: единственному, который понимал. А понимал я больше, чем сами родители. Они-то в этой каше варились, а я только со стороны смотрел. Я даже больше обращал внимания чем оба они, из раза в раз повторявшие одно и то же:
— Не буду.
— Будешь.
— Не буду.
— Будешь, будешь, как миленький.
Я ждал от них чего угодно, любой ругани и брани, лишь бы она была не как прежде: глядишь, и до чего-нибудь дельного доругаются, и дело подойдёт к концу. Их ссоры, их драки напоминали игрушечный поезд, застрявший на повороте, и хочешь-не хочешь, надо подталкивать его поправлять. Я мог только прислушиваться и загадывать желания. Молиться выходило плохо, потому что я не знал подходящей молитвы. Ни «Отче наш», ни «Аве Мария» как-то не годились. Зато покачивался туда-сюда, как бы молясь. Вперёд назад, в ритме молитвы. Самая короткая молитва — перед едой, потому что все проголодались и не дотерпеть до завтрака.
Я качался туда-сюда.
— Хватит, хватит, хватит, хватит…
Наверху. На лесенке перед задней дверью. В кровати. Сидя рядом с папаней за кухонным столом.
— Ненавижу, ну и пакость.
— В прошлое воскресенье ел и похваливал.
На завтрак по воскресеньям папаня ел одну поджарку. Каждому досталось по сосиске, и черного пудинга сколько хочешь, вдоволь. До мессы целый час.
— Ешь сию секунду, — предупредила меня маманя, — а то к причастию не допустят.
Я глянул на часы. До половины двенадцатого осталось девять минут. Месса в пол-первого. Я разрезал сосиску на девять кусочков.
— Сколько раз повторять, ненавижу, когда жидкое, непрожаренное.
— Непрожаренные были на той неделе, сегодня прожарились.
— Ненавижу, ну и пакость. Не буду есть…
Я качался туда-сюда.
— В туалет приспичило?
— Не-а.
— Что с тобой тогда?
— Ничего.
— Тогда не шатайся как полоумный. Завтракай.
Папаня молча съел всё, в том числе и жидкое яйцо. Вот мне даже нравилось, когда яйцо жидкое. Папаня легко собрал яйцо ломтиком хлеба. У меня так никогда не выходило, просто гоняю желток туда-сюда хлебом. А папаня очистил тарелку за полминуты. Он молчал, но было понятно, что он видит, как я качаюсь, и догадывается, почему.
Похвалил чай.
В пол-двенадцатого он ещё жевал. Я засёк время, ждал, когда минутная стрелка подойдет к цифре «шесть». Что-то внутри часов клацнуло. Опоздал на целых тридцать шесть секунд.
Я помалкивал. Увидим, с какой рожей он пойдёт к Святому причастию. Я всё видел. И Господь тоже.
Мне нравилось перенастраивать приёмник, крутить ручку. Я клал его перед собой на кухонный стол, потому что выносить его из кухни запрещалось. Я быстро-быстро крутил ручку настройки до упора, пока не начинало ныть запястье. Мне нравилось поскрипывание иглы и голос, потом опять поскрипывание, уже другое, снова голос, теперь вроде бы женский; Я не вслушивался. Туда-сюда, туда-сюда, музыка, бульканье, голоса, тишина. На пластмассовой решётке, откуда выходил звук, было много грязи, похожей на грязь под ногтями. В нижнем углу была золотая наклейка «Буш». Маманя слушала «Кеннеди из Каслросса». Я, как водилось на каникулах, сидел с ней на кухне, но сам не слушал. Сидел в кресле, ждал, когда кончится эта тягомотина, и смотрел, как слушает маманя.
Открыв коробку «Персила», я высыпал пригоршню в море. Ну, и что ужасного стряслось: на воде расплылось пятно и исчезло. Я сыпанул ещё. Ничего худого у меня и в мыслях не было.
— Дай сюда, — потребовал Кевин, и я отдал ему всю коробку.
Он схватил за шкирку Эдварда Свонвика. И мы схватили, когда поняли, что он задумал. Эдвард Свонвик по-настоящему с нами не дружил, вечно был сбоку припёка. Я никогда за ним не заходил, не бывал у них даже на кухне. А в Хэллоуин, бывало, постучишься к ним домой — ни конфет, ни денег не дадут, одни фрукты. А миссис Свонвик предупреждала нас не есть их все сразу.