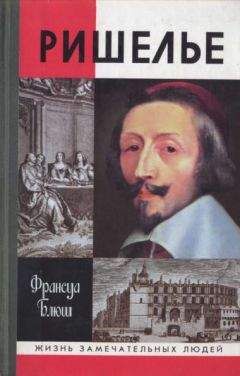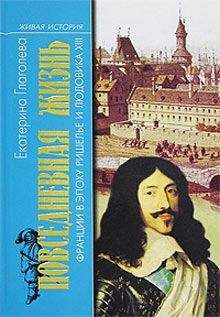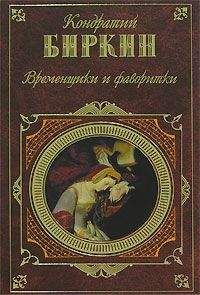Фэй Уэлдон - Подруги
— Вот этот, и этот, и этот, — говорит он, — все они лечатся от дурной болезни.
Грейс. Да и вообще — ты что, не знаешь Патрика. Была бы юбка, все прочее несущественно. А у мамы были красивые ноги, и, ты помнишь, она постоянно возилась в саду с цветами, наклонясь к земле. Что бы мне взять с собой — синее бикини или черный купальник?
Тело у Грейс по сей день сохранилось поджарое, гладкое. Она красиво загорает.
Хлоя. Купальник.
Но Грейс, понюхав купальник, уже швырнула его в мусорное ведро.
Хлоя. Слушай, Грейс, кончай ты все время врать, а? И так у тебя в жизни, по-моему, хватало трудностей, зачем опять баламутить?
Грейс, не отвечая, глядит на Хлою с улыбкой. И Хлое вспоминается Эстер Сонгфорд на кухне — молодая, обиженная, в слезах, — и в душу к Хлое закрадывается сомнение.
Грейс. Ты, Хлоя, подчас ведешь себя не лучше Блаженной Голубки. Знаешь, что правда, а верить отказываешься.
30
Все военные годы в Алден, точно призрак, является Блаженная Голубка. Приезжает в конце недели на лондонском поезде и бродит по деревушке, останавливает прохожих, стучится в двери, неизменно улыбаясь, неизменно заискивая.
— Вы не видали, голубка, моих сыновей? Сирила и Эрнеста?
Она раздает женщинам полевые цветы, мужчинам — поцелуи, словно предлагая выкуп в обмен на добрые вести.
— На Сириле, голубчик, зеленая фуфаечка. Я сама вязала. На Эрнесте — бордовенькая, поменьше.
Когда смеркалось, она сникала и ехала назад, сидя в поезде тихо и чинно, как всякая другая.
Сирил и Эрнест похоронены на алденском кладбище. Приехав в деревню, они назавтра же сбежали посреди ночи домой, в Лондон, и, переходя по льду в темноте меловой карьер, утонули. Их эвакуировали в Алден со школой, не предупредив родителей, не сообщив им ничего и потом, дабы сведения о детях не перехватил ненароком немецкий шпион. Говорят, Блаженная Голубка спала со школьным учителем, надеясь выпытать, куда отправили ее мальчиков, но и тогда он не смог сказать ничего определенного. Твердил только — в Эссекс, а мало ли в Эссексе деревень.
Блаженная Голубка приезжает в Алден на другой день после того, как ее сыновей похоронили. Местный священник рассказывает ей, как они погибли, но до нее это, кажется, не доходит. Он подводит ее за руку к свежей могиле, но она только смотрит невидящими глазами и говорит: «Пожалуйста, скажите, где они, я вас за это поцелую. А хотите — не только поцелую».
Не удивительно, если у священника после этого повышается давление.
Она совсем молоденькая, лет двадцати с небольшим, и хорошенькая, но вскоре на лице у нее появляется угрюмое выражение, которое старит ее. Муж у нее в действующей армии, но где именно — тайна, и вернуться ему не суждено. Он объявлен пропавшим без вести и, скорее всего, убит. Обстоятельства его смерти также держат в тайне. Тайны для нее, несчастной, сделались так привычны, что она попросту не может уже доверять тому, что ей говорят.
31
Перепрыгивая через две ступеньки, по лестнице взбегает Себастьян — худой, веселый, отчаянный, — взбегает, точно за ним по пятам волчицей гонится старость, не давая ему сбавить шаг. К удивлению Грейс, он как будто очень рад видеть Хлою. Он прижимает угловатую от неловкости Хлою к своей заношенной джинсовой рубашке, спрашивает, как она поживает, осведомляется даже о Марджори.
— Готовится к гинекологической операции, — говорит Хлоя.
— Черт, уже вступила, значит, в операционный пояс! — говорит Себастьян.
У Себастьяна пояс широкий, кожаный, с бронзовой пряжкой в виде змеи, заглатывающей орла. Как властвует и глумится он над миром! С каким содроганием шарахается прочь от всего, что сулит скуку и одиночество. Мир страждет, но какое Себастьяну дело!
Себастьян ничем не обязан миру — разве что, считает он, фактом своего существования и удовольствием, которое оно ему доставляет.
Себастьяновы ягодицы четко обрисованы линялыми джинсами. Хлою, к ее изумлению, неожиданно пронизывает желание — прямиком от глаз до лона, минуя стороною мозг. Не то ли самое, думается ей, ощутила Эстер Сонгфорд, когда, оторвавшись от клумбы с геранью, встретилась взглядом с Патриком Бейтсом?
Снаружи — забудь. Про себя, внутри, — помни. Это пойдет тебе на пользу.
— У Марджори всегда нелады внутри, — говорит Грейс, с откровенной поспешностью выпроваживая Хлою за дверь. — Сплошная морока. Ей будет только лучше без внутренностей.
Что ж, прощая ей, думает Хлоя, если у тебя мать умерла при родах, а родила единокровного брата одного из твоих детей, у тебя и впрямь есть основания считать, что с женскими внутренностями — сплошная морока.
— Грейс, — озабоченно спрашивает Хлоя, медля уходить, — ведь твоя мама ничего не знала про тебя и Патрика, правда?
Но в глазах у Грейс внезапно вспыхивает злорадство.
— До чего ты меня злишь, Хлоя, — говорит она. — Да разве это важно? Разве важно, к примеру, что теперь Франсуаза спит с твоим мужем? Тем более что все это — твоих же рук дело. Ты упорно подсовывала Франсуазу ему под нос. Думаешь, я не видела?
Хлою бьет дрожь, ее разумный, устроенный мир летит вверх тормашками.
— Что я тебе сделала? — спрашивает она. — За что ты меня так?
— Ты — была, этого достаточно, — говорит Грейс. — Ты и Марджори. Хорошая парочка кукушек в моем гнезде. Это вы свели в гроб мою мать. Вымотали у нее все силы.
И Грейс, зайдя в квартиру, хлопает дверью, а бедная Хлоя в расстроенных чувствах едет к себе в Эгден справляться с Франсуазой и дотемна пропалывать клумбы с геранью.
32
Марджори, Грейс и я.
У нас свои жгучие тайны, свои предрассудки, свои убеждения, в которых сплелись воедино правда и вымысел. Свои женские страхи, столь же обоснованные, сколь и вздорные. Свой жизненный опыт, которым мы делимся друг с другом. Нисколько не похожий на то, что мы узнавали по романам и учебникам.
Мы получали аттестаты, дипломы, степени. Прошли через выкидыши, аборты, роды. Нам с Марджори довелось лечиться в кожной клинике. Мы до сих пор стесняемся называть вслух свои причинные места. Знакомы с ними вслепую, за глаза. И во многом от них зависим.
Грейс считает, что забеременеть легче всего с непривычки. Оттого-то это случается так часто с неопытными девушками. Грейс уверена, что у нее неблагополучно по женской части. Каждый день она обследует себе грудь, ища признаков рака, — и каждый день обнаруживает у себя новые шишки и затвердения. Врачам, которые смотрят ее, она не доверяет.
От будущих детей Грейс избавляется как у сомнительных дешевых врачей, так и в дорогих клиниках. Она обожает наркоз и не испытывает потом ничего, кроме облегчения, что ее больше не мутит.
Говорят «любишь кататься, люби и саночки возить», но к Грейс эта пословица неприменима.
Марджори считает, что, единожды не справясь с задачей доносить ребенка до положенного срока, она лишилась этой привилегии навсегда. Она полагает себя бесплодной и уверена, что это к лучшему, поскольку все равно способна была бы произвести на свет только уродца. Как дала ей понять молодая дрянь, сестра из клиники кожных болезней, в которой Марджори имела несчастье проходить курс лечения, — и чему Марджори предпочитает верить.
Разве что от Патрика могла бы она, пожалуй, родить нормального ребенка, думает Марджори, но Патрик, увы, использует ее всего-навсего как прачку.
Марджори ходит по врачам, ездит по оздоровительным лагерям, отмечает у себя дома премьеры своих телефильмов и не разыгрывает недотрогу, если кому-то вздумалось остаться у нее после того, как все разошлись.
Я, Хлоя, считаю, что смысл близости — дети. Что появление ребенка, в иных случаях, предначертано — самые неподходящие люди сойдутся, произведут дитя и, совершив это, разойдутся вновь, ошарашенные содеянным. У благодушнейших здоровяков ни с того ни с сего рождаются хилые, жалкие заморыши, и нет во всем этом ни капли справедливости. Что дети, как ты им в том ни помогай, как ни препятствуй, по существу, не меняются со дня рождения и до того дня, как покинут дом.
Я, Хлоя, уверена, что, если не присматриваться и не прислушиваться, все твои органы будут функционировать нормально, острый луч пытливости вредит им.
Обследуй себе грудь сегодня, и завтра нащупаешь роковую опухоль. Не знаю, подтвердит ли это статистика, но опыт — подтверждает.
Я, Хлоя, считаю, что мое назначение — быть матерью, а не возлюбленной. Допустить, что одно совместимо с другим, я не могу — хоть разум твердит мне обратное — и потому мирюсь с тем, что Оливер спит с Франсуазой. Таким образом мне удается сохранить чувство собственного достоинства.
К тому же матери полагается всегда быть начеку. А быть начеку, предаваясь любовным восторгам, — противоестественно.