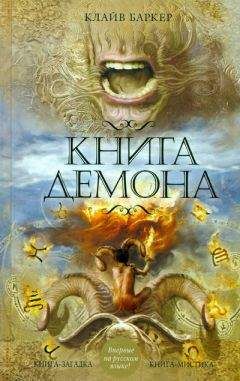Альберто Моравиа - Презрение
- Именно этим я весь день и занимаюсь, сказал я немного обиженно.
- Нет, вы не хотите поразмыслить... Ну, подумайте хорошенько, постарайтесь вникнуть поглубже, и прежде всего учтите, что история Одиссея это история его отношений с женой.
На этот раз я промолчал. И Рейнгольд продолжал:
- Что нас больше всего поражает в "Одиссее"? Медлительность, с какою возвращается Одиссей, то, что он тратит на возвращение домой десять лет... И в течение этих десяти лет, несмотря на любовь к Пенелопе, о которой он так много говорит, пользуется всяким удобным случаем, чтобы ей изменить. Гомер старается уверить нас, что Одиссей только и думает, что о Пенелопе, только и желает поскорее оказаться с ней... Но можно ли верить ему, Мольтени?
- Если не верить Гомеру, сказал я шутливо, то уж прямо не знаю, кому же тогда верить.
- Себе самому, современным людям, умеющим разглядеть то, что скрыто за мифом... Мольтени, я читал и перечитывал "Одиссею" бесчисленное множество раз и пришел к выводу, что в действительности Одиссей, хотя, возможно, он и сам не отдавал себе в этом отчета, совсем не хотел возвращаться домой, не стремился вновь обрести Пенелопу... Таков мой вывод, Мольтени.
Я снова промолчал, Рейнгольд, ободренный моим молчанием, продолжал:
- На самом деле Одиссей страшится возвращения к жене, и далее мы увидим почему; страшась этого, он подсознательно сам старается создать препятствия, которые могли бы помешать его возвращению... Его пресловутая любовь к странствиям не что иное, как бессознательное стремление затянуть возможно дольше свое путешествие, участвуя во множестве различных приключений, которые и в самом деле неоднократно прерывают и удлиняют его,.. Возвращению Одиссея препятствуют не Сцилла и Харибда, не Калипсо и феаки, не Полифем и Цирцея, даже не боги; возвращению его препятствует подсознательное желание самого Одиссея, оно подсказывает ему один за другим удобные предлоги, чтобы на год задержаться в одном месте, на несколько лет в другом, и так далее...
Значит, вот к чему клонил Рейнгольд: это была типично фрейдистская интерпретация классики. Я только удивился, что не догадался об этом раньше, ведь Рейнгольд немец, свои первые шаги он делал в Берлине в те времена, когда начал пользоваться известностью Фрейд, затем переехал в Соединенные Штаты, где психоанализ в большом почете; естественно, что он пытается применить эти методы даже к такому, совершенно не знающему сложных переживаний герою, как Одиссей. Я сухо сказал:
- Очень здорово придумано... Однако мне еще не совсем ясно...
- Одну минутку, Мольтени, одну минутку... Как это совершенно очевидно при таком моем толковании, являющемся единственно правильным, "Одиссея", согласно открытиям современной психологии, представляет собой сугубо личную историю, историю разлада одной супружеской пары... Одиссей долгое время страдает и вместе с тем сам усугубляет этот разлад, пока наконец после десяти лет внутренней борьбы ему не удается найти выход, хотя для этого ему приходится вернуться к той ситуации, которая этот разлад и породила... Иначе говоря, в течение десяти
лет Одиссей сам придумывает всевозможные поводы для задержки, изобретает всевозможные предлоги, чтобы не возвращаться под супружеский кров... Он даже не раз намеревается связать свою судьбу с другими женщинами... Однако в конце концов ему удается побороть себя, и он возвращается... Возвращение Одиссея как раз и означает, что он примиряется с положением, из-за которого уехал и не хотел возвращаться.
- С каким положением? спросил я, на этот раз действительно удивленный. Разве Одиссей уехал не для того, чтобы принять участие в Троянской войне?
- Это только внешняя сторона событий, внешняя сторона... нетерпеливо повторил Рейнгольд. Но о положении на Итаке до того, как Одиссей отправился на войну, о женихах и обо всем прочем я скажу после того, как объясню причины, по которым Одиссей не желает возвращаться на Итаку и боится встречи с женой... А пока что мне хотелось бы подчеркнуть первое важное обстоятельство: "Одиссея" не описание приключений или каких-либо внешних событий, происходящих в различных странах, хотя Гомер и хотел бы заставить нас в это поверить... А наоборот, описание сугубо личной душевной драмы Одиссея... И все, что происходит и "Одиссее", лишь отражение подсознательных чувств... Вы, конечно, знакомы с учением Фрейда, Мольтени?
- Да, немного.
- Так вот, Фрейд будет нашим проводником в сложном внутреннем мире Одиссея, а не какой-нибудь Берар с его географическими картами и филологией, которая ничего не объясняет... И вместо Средиземного моря мы станем исследовать душу Одиссея... или, вернее, его подсознание.
Чувствуя, как во мне поднимается раздражение, я сказал, возможно, излишне резко:
- Но тогда ни к чему ехать на Капри, раз речь идет просто о будуарной драме... Мы прекрасно могли бы работать и в меблированной комнате в одном из новых районов Рима!
При этих словах Рейнгольд бросил на меня изумленный и вместе с тем оскорбленный взгляд, и я услышал его
неприятный смех так смеются, когда хотят обратить в шутку грозящий плохо кончиться спор.
- Лучше давайте продолжим этот разговор на Капри, в спокойной обстановке, сказал он и перестал смеяться. Вы, Мольтени, не можете одновременно вести машину и разговор об "Одиссее"... Так что лучше уж ведите машину, а я полюбуюсь очаровательным пейзажем.
Я не рискнул ему возражать, и почти целый час мы ехали молча. Так мы миновали древние Понтийские болота; по правую сторону дороги тянулся канал с почти неподвижной, застоявшейся водой, по левую зеленела орошаемая низина; мелькнула Чистерна, за ней Террачина. Дальше дорога пошла по самому берегу моря, вдоль невысоких, каменистых, выжженных солнцем гор. Море было неспокойно, за желтыми и черными прибрежными дюнами оно казалось мутно-зеленым, по-видимому, его взбаламутила недавняя буря, поднявшая со дна пласты песка. Тяжелые волны, лениво вздымаясь, набегали на узкий пляж, окатывая его белой, словно бы мыльной, пеной. Вдали от берега море было подернуто рябью и казалось уже не зеленым, а синим, почти фиолетовым. Под порывами ветра, то появляясь, то исчезая, пробегали белоснежные барашки. И небо было такое же беспокойное, в причудливом беспорядке плыли в разные стороны белые облака, а в разрывах сверкала лазурь, ослепительно яркая, вся пронизанная солнцем, морские птицы кружили, падали как подстреленные вниз и то снова взмывали ввысь, то парили над самой водой, словно стараясь приноравливать свой полет к порывам ветра, непрестанно менявшего направление. Я вел машину, не отводя глаз от этого морского пейзажа, и вдруг совершенно неожиданно, словно в ответ на укоры совести, вызванные удивленным и обиженным взглядом, который бросил на меня Рейнгольд, когда я назвал его толкование "Одиссеи" будуарной драмой, решил, что я прав так и виделись мне в этом море, расцвеченном сочными живыми красками, под этим ярким небом, у этого пустынного берега черные корабли Одиссея, держащие путь к еще девственным и неведомым землям Средиземноморья. Гомер хотел изобразить именно такое вот море, такое же небо и такое же побережье, и герои его сами походили на эту природу, наделившую их классической простотой, удивительным чувством меры. Вот и все. И ничего более! А теперь Рейнгольд пытается превратить этот яркий и красочный мир, овеянный свежими ветрами, щедро залитый солнцем, населенный хитроумными и жизнерадостными существами, в какой-то бесцветный, бесформенный, лишенный солнца и воздуха мир подсознательного -тайники души Одиссея. Выходит, "Одиссея" вовсе не рассказ об удивительных странствиях, сопутствовавших открытию Средиземноморья в легендарном детстве человечества, а бесконечное копание в тайниках души, описание внутренней драмы современного человека, запутавшегося в противоречиях, находящегося на грани психоза. Как бы подытоживая свои размышления, я подумал, что, пожалуй, трудно было бы найти более неподходящего для меня соавтора; к обычно наблюдаемому в кино стремлению без всякой надобности все изменять, причем изменять к худшему, в данном случае добавлялась еше особая мрачность, свойственная чисто механическому и абстрактному психоанализу. И в довершение всего эксперимент этот проводился над таким удивительно ясным и светлым произведением, как "Одиссея"!
Теперь мы ехали почти по самому берегу моря; вдоль дороги, совсем рядом с прибрежными песками, вились зеленые лозы густого виноградника, а за ним темнел усеянный обломками скал узкий пляж, на который время от времени, сверкая пеной, неторопливо обрушивались волны. Я резко затормозил и сухо сказал:
- Надо немного размять ноги.
Мы вышли из машины, и я зашагал по тропинке, которая, пересекая виноградник, вела к пляжу. Как бы в оправдание я сказал Рейнгольду:
- Я целых восемь месяцев просидел дома взаперти... с прошлого лета не видел моря... пойдемте на минутку на пляж.