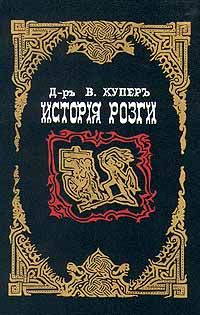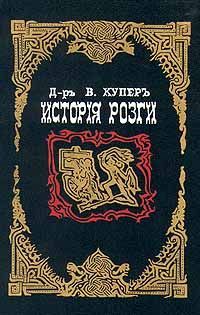Ромен Роллан - Жан-Кристоф (том 2)
Кристоф уехал последним поездом. На одной из промежуточных станций он увидел встречный поезд, ожидавший отправления. В том вагоне, который был как раз напротив Кристофа, в купе третьего класса сидела молодая француженка, с которой он смотрел "Гамлета". Она тоже заметила и узнала Кристофа. Оба были поражены. Они молча поклонились и застыли, не смея даже взглянуть друг на друга. Кристоф все же успел разглядеть дорожный берет и старенький чемодан, стоявший рядом на скамье. Далекий от мысли, что она навсегда расстается с Германией, он решил, что это лишь временная отлучка. Пока Кристоф раздумывал, заговорить ли с девушкой и что сказать ей, пока он собирался опустить раму, чтобы перемолвиться с ней двумя-тремя словами через вагонное окно, послышался сигнал к отправлению, и Кристоф решил, что говорить не стоит. До отхода поезда оставалось несколько секунд. Они обменялись взглядами. Одни в своих купе, прижавшись лбом к стеклу, они долго смотрели друг на друга, преодолевая ночной мрак. Их разделяли стекла двух вагонных окон. Стоило протянуть руку, и пальцы их могли бы соприкоснуться. Так близко. Так далеко. Загромыхали колеса. Девушка все еще смотрела на него, отрешившись в минуту разлуки от своей робости. Оба так углубились в созерцание друг друга, что забыли попрощаться хотя бы кивком Она постепенно исчезала из глаз Кристофа, и, наконец, поезд, уносивший ее, канул в ночь. Как два блуждающих светила, они встретились на мгновение и, разминувшись, уходили в бескрайные пространства, быть может, навсегда.
Не успела она скрыться из виду, как Кристоф ощутил бездонную пустоту, которую оставил в нем взгляд незнакомки; он не отдавал себе отчета, почему, но пустота была. Забившись в угол вагона, он в полудремоте смежил веки и почувствовал на себе ее взгляд; и все другие мысли отступили, чтобы он мог полнее вобрать в себя этот взгляд. Образ Коринны витал где-то близ сердца Кристофа, как бабочка, которая бьет крылышками в стекло закрытого окна и которую не впускают.
Но как только Кристоф вышел из вагона, как только ночная прохлада и движение по улицам сонного города прогнали сковывавшее его оцепенение, этот образ возник снова. Кристоф улыбался, он думал о прелестной актрисе с удовольствием, но и с досадой, смотря по тому, что ему вспоминалось - ее сердечное обращение с ним или пошлое кокетство.
- Ну и черти же эти французы, - ворчал он, беззвучно смеясь и стараясь раздеться потише, чтобы не разбудить спавшую за стеной мать.
И в памяти всплыли слова, слышанные им в тот вечер в ложе:
- Есть среди нас и серьезные.
Так, уже при первом своем соприкосновении с Францией, он стал в тупик перед загадкой ее двойственной природы. Но, как все немцы, он не старался ее разгадать и спокойно повторил, вспомнив о незнакомке, промелькнувшей перед ним в окне вагона:
- Она не похожа на француженку.
Как будто немцу подобает решать, что есть Франция и что на нее не походит.
Была она или не была француженкой, ее образ запал ему в душу; Кристоф проснулся среди ночи со стесненным сердцем: он вспомнил о чемодане, стоявшем на скамейке возле молодой девушки; и вдруг его пронзила мысль, что она совсем уехала из Германии. Правда, эта мысль напрашивалась с первой же минуты, однако он не додумался до нее. А теперь она рождала глухую печаль. Но он пожал плечами.
"Ну и что же? - спросил он себя. - Мне-то какое дело!"
И тут же опять уснул.
На следующее утро первый, с кем Кристоф столкнулся по выходе из дому, был Маннгейм; Маннгейм осведомился, величая его "Блюхером", не намерен ли он завоевать всю Францию. Через эту живую газету Кристоф узнал, что история с ложей имела успех, превзошедший все ожидания Маннгейма.
- Ты гений! - кричал Маннгейм. - Я перед тобой ничтожество.
- Да что я сделал? - спросил Кристоф.
- Он великолепен! - отвечал Маннгейм. - Просто зависть берет. Выхватить ложу из-под носа у Грюнбаумов и зазвать туда их же учительницу-француженку - нет, до этого никто бы не додумался, а я меньше всего.
- Так это была учительница Грюнбаумов? - спросил огорошенный Кристоф.
- Да, можешь прикидываться, что ты этого не знал, можешь строить из себя невинность, я тебе даже очень советую! Мой папаша до сих пор сам не свой. Грюнбаумы рвут и мечут! У них расправа короткая: выставили барышню за дверь.
- Как! - вырвалось у Кристофа. - Ее уволили?! Уволили из-за меня!
- А ты не знал? - спросил Маннгейм. - Она тебе не рассказала?
Кристоф был в отчаянии.
- Незачем расстраиваться из-за таких пустяков, - сказал Маннгейм. - И потом, ведь этого следовало ожидать. Когда Грюнбаумы узнали бы...
- Что? - крикнул Кристоф. - Что узнали?
- Что она была твоей любовницей, черт тебя побери!
- Да я с ней незнаком, я даже не знаю, кто она.
Маннгейм ответил улыбкой, явно говорившей: "Нашел дурака!"
Кристоф вспылил и потребовал, чтобы Маннгейм сделал ему честь поверить его словам. Маннгейм заметил:
- В таком случае это еще смешнее.
Кристоф был вне себя. Он твердил, что пойдет к Грюнбаумам, скажет им правду, объяснит, что девушка ни в чем не повинна. Маннгейм принялся отговаривать его.
- Милый мой, - сказал он, - как ни уверяй их, они только укрепятся в своем мнении. И потом, слишком поздно. Девушка теперь далеко.
Потрясенный Кристоф старался найти след молодой француженки. Он порывался писать ей, умолять о прощении. Но никто не имел о ней никаких сведений. Грюнбаумы, к которым он обратился, чуть не выгнали его. Они не знали, куда уехала девушка, да и знать не хотели. Мысль о беде, которую он навлек на нее, терзала Кристофа; его грызла совесть. К тому же он до сих пор испытывал на себе таинственную притягательную силу, которая молчаливо изливалась из глубины исчезнувших глаз. Этот зов, эти угрызения временами ослабевали, смываемые потоком времени и новых мыслей. Но образ незнакомки не уходил. Кристоф не забыл той, которую он называл своей жертвой, он дал себе клятву разыскать ее. Он знал, как мало надежды снова свидеться с нею, и все же твердо верил в это свидание.
А Коринна не ответила ни на одно письмо Кристофа. И только через три месяца, когда он уже перестал ждать, от нее пришла телеграмма в сорок слов, полная глупой, но веселой болтовни и нежных эпитетов; актриса спрашивала: любят ли они еще друг друга? Затем, после долгого промежутка, почти через год, от нее получилось письмецо - листочек, испещренный крупными детскими каракулями, с претензией на светскость, - несколько слов, приветливых и шутливых. На этом переписка кончилась. Коринна не забыла Кристофа, но ей некогда было думать о нем.
Еще весь во власти очарования Коринны и мыслей, которыми они обменялись, Кристоф мечтал сочинить музыку для пьесы, где могла бы играть Коринна, с несколькими вставными ариями - своего рода поэтическую мелодраму. Этот некогда ценимый в Германии род искусства, которым страстно увлекался Моцарт, в котором подвизались Бетховен, Вебер, Мендельсон, Шуман, все великие классики, не пользовался успехом с тех пор, как победила школа Вагнера, возомнившая, будто она открыла некую совершенную формулу для драмы и для музыки. Ретивые педанты из вагнерианцев, не ограничиваясь запретом, который они наложили на новую мелодраму, стали причесывать старые; они тщательно вытравляли из опер диалоги и сочиняли за Моцарта, Бетховена и Вебера речитативы по своему рецепту; они были уверены, что действуют к вящей славе великих мастеров, благоговейно облепляя всякой дрянью их вечные творения.
Кристоф, яснее понявший после критических замечаний Коринны, как неуклюжа порою и безвкусна вагнерианская декламация, спрашивал себя, не противоречит ли здравому смыслу и природе слияние речи и пения в речитативе, не значит ли это пытаться совместить несовместимое. Ведь и речь и пение имеют свой особый ритм. Можно понять художника, который приносит в жертву одно из этих искусств ради более им ценимого. Но искать компромисса между ними - значит жертвовать и тем и другим, значит стремиться к тому, чтобы речь не была речью, а пение - пением, значит заключить широкое, плавное течение реки в однообразные берега канала, песню, ее прекрасную нагую плоть, стеснить богатыми и тяжелыми тканями, сковывающими движения. Почему бы не дать простора и тому и другому? Представьте себе прекрасную девушку, упругим шагом идущую вдоль ручья и погруженную в раздумье; лепет струй баюкает ее мечты; она бессознательно соразмеряет ритм своих шагов с песней ручья. Так музыка и поэзия, обе свободные, могут шествовать рядом, сливая свои мечты. Разумеется, не всякая музыка и не всякая поэзия пригодны для такого союза. У противников мелодрамы имелось готовое оружие: они ссылались на топорность всех прежних попыток и всех исполнителей, подвизающихся на этом поприще. Кристоф долго разделял их неприязнь: глупость актеров, декламировавших под музыку, совершенно не считаясь с музыкальным сопровождением, не пытаясь слить с ним свой голос и стремясь, напротив, лишь к одному - чтобы публика слышала только их, могла оскорбить любое музыкальное ухо. Но после того, как Кристоф услышал гармонический голос Коринны - этот прозрачный и чистый голос, который купался в волнах музыки, как луч солнца в воде, который принимал все очертания мелодической фразы, который сам был песней, но более свободной, более гибкой, - он отдал должное красоте нового вида искусства.