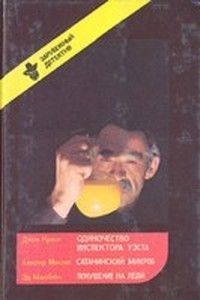Марат Басыров - Печатная машина
Пустота, рождающая ужас.
Натянув цепочку наручников, я сел и прислонился к стене.
Так. Сомнений, что я в мусарне, у меня не было.
Но почему?
Страшась всяческих предположений, ни одно из которых меня не устраивало, я превратился в камень…
Сколько прошло часов, я не знал.
Очень хотелось пить.
Ко всему прочему просыпалось мое сердце, и это могло стать моей основной проблемой.
Я подождал еще немного, потом не выдержал.
— Эй, — сказал я.
Ответа не последовало.
— Эй! Кто-нибудь! — заорал я что есть мочи. — Здесь есть кто-нибудь?!
Мое бедное сердце, подпрыгнув, пустилось вскачь. Я разбудил его своим криком, а вместе с ним — его голод.
Зато и за дверью тоже проснулись. Я услышал тяжелые шаги.
Глазок потемнел.
— Че орем? — голос был груб и в то же время бесстрастен. Это почему-то вселяло надежду.
— Я пить хочу.
— Перетопчешься.
Господи, это уже был твой знак. «Перетопчешься», — так обычно говорил мой отец.
— Командир, я сейчас обоссусь. Будь другом, выведи, а? — я постарался вложить в просьбу сыновние нотки.
За дверью несколько секунд длилось молчание, затем я услышал это знакомое мне слово.
— Нет.
Дверь открылась в тот самый момент, когда я уже решил, что не выйду отсюда живым.
Такого со мной еще не было. Я не мог сказать ни слова — сердце, сорвав якоря, бултыхалось в районе глотки. Казалось, еще немного, и оно выскочит в рот.
Меня отстегнули и вывели в помещение дежурки.
Я еле шел.
Затем плюхнулся на первый попавшийся стул.
— Встать!
Я кое-как поднялся, но выпрямиться не смог.
— Эй, ты чего это?.. Слышишь?.. Чего это с тобой?
Подняв глаза, я увидел прямо перед собой чье-то растерянное лицо.
— Водки, — прохрипел, не надеясь ни на что.
Но чудо произошло — мне протягивали наполненный до краев стакан.
— Держи.
Я протянул руку.
Стакан выпал и разбился у моих ног.
Резко запахло спиртом.
— Да ебаный ты в рот, — разочарованно протянул кто-то сбоку. — Ему как человеку, а он…
— Погоди, — перебил тот, кто стоял рядом со мной. — Дай другой.
Этот я уже взял двумя руками, осторожно, как своего ребенка (тогда, первый раз у роддома). Этот стакан должен был даровать мне продолжение жизни…
— Спасибо, — сказал я сидящему за столом капитану.
Он быстро заполнял какие-то бумаги.
— Не за что, — не отрываясь от записей, ответил капитан. — У меня брат так умер.
— А, — только и смог сказать я.
Сердце на веслах возвращалось в родную гавань.
— Значит, так, — капитан отложил ручку и уставился на меня. — На Пряжку будем тебя оформлять.
— Зачем сразу на Пряжку, — я попытался улыбнуться. — Вы же мне жизнь только что спасли.
Капитан нахмурился.
— Ты хоть помнишь, как здесь оказался?
— Ну-у, — протянул я и замолчал.
— Не помнишь, — резюмировал капитан. — Понятно.
И он вкратце рассказал, как закончился мой вчерашний вечер.
В самый разгар пьянки (а это была самая настоящая пьянка, кто ж спорит) я схватил со стола нож и несколько раз полоснул себе по запястью. Затем выскочил на улицу и, пока меня не скрутили, успел изуродовать невесть откуда взявшейся в моих руках лопатой стоящий на тротуаре автомобиль.
Только-то и всего? Я полностью приходил в себя.
— Черная «ауди»? — спросил я.
— Что? — не понял капитан.
— Машина, изуродованная мной, — черная «ауди»?
Капитан опустил глаза в свои записи.
— Допустим. И что это меняет?
Я пожал плечами.
— Это моя машина. Посмотрите документы.
— Да мне поебать, чья это машина! — взорвался капитан. — Мне это до пизды, понял?!
Я понял.
— Слушай, — сказал я. — Ты же мне жизнь спас. Ты ж крестный теперь мой. Спаси еще раз.
Он вздохнул, тут же успокаиваясь.
— Это будет тебе стоить, — тихо произнес он.
— Сколько?
— Штука.
— Годится.
— Не рублей.
— Уж понятно, — вздохнул я. — Дай мне мой телефон.
Через два часа я сидел на заднем сиденье такси. Рядом сидела Ольга.
За стеклом мелькал город. Моросил дождик.
— Спасибо, — сказал я жене.
— Я от тебя ухожу, — ответила она.
Я попросил таксиста остановиться недалеко от дома.
Выйдя из машины, захлопнул дверь.
Потом вошел в магазин и купил пузырь коньяка…
Бомж на углу долго смотрел мне вслед, сжимая в руке едва початую диковинную по форме дорогую бутыль.
Я шел домой с твердым намерением завязать.
У парадной на скамейке сидел Иваныч.
— Ты что, Иваныч? — я наклонился над ним.
Из его глаз полились слезы.
— Умру я, Сереж, — сказал он. — Скоро.
— Ты что?.. Ты это что такое сейчас говоришь?
Я всматривался в его испитое лицо и вдруг совершенно отчетливо увидел в нем свое.
Меня пробрал озноб.
— Я умру, Сережа. Умру, — не умолкал он.
— Заткнись! — заорал я, чувствуя, как мои глаза обжигает огнем. — Заткнись, сука!
Но он все продолжал твердить о своей смерти.
Я размахнулся и влепил ему пощечину.
Иваныч замолчал, только чаще захлопал ресницами, еще больше выдавливая слезы из своих потухших глаз.
Меня захлестнула волна жалости. То ли к нему, то ли к себе, то ли еще хрен знает к кому. Это была огромная соленая волна.
Я встал перед ним на колени. Меня колотило.
— Не плачь, Иваныч, — мой голос исказили рыдания. — Не плачь, ты!.. Человек!.. Хули ж ты ревешь, как маленький!
Но я уже сам ревел пуще него.
— Ну прекрати… Слышишь?.. Ну что для тебя сделать?.. Скажи, что?!..
Я обнял его голову, и тут меня осенило.
— Хочешь, я возьму тебя на Кубу?.. Иваныч, завтра же!.. Слышишь?.. Все, решено! Завтра же мы с тобой летим на Кубу!.. Обещаю, только не плачь! Слышишь?.. Не плачь!
Дверь парадной открылась, и из нее вышла соседка.
Она прошла мимо, оглядываясь, но мне уже было все равно.
Я улетал на Кубу…
19. «РОЛАН ГАРРОС»
«А-моресмо, а-моресми!» — пищал рисованный цыпленок, судорожно взмахивая желтыми культяпками в перерывах репортажей с «Ролан Гаррос». Мы с Таней смеялись, глядя на его потешные усилия взлететь с именем французской теннисистки в клюве, посеянной на турнире под вторым номером. Второй номер посева — это что-то да значило, но только не для нас. Возможно, этой рекламной птичке было не до смеха, — она делала то, что делала, — но, право, забавно было глазеть на ее вытаращенные болты по пять копеек. «Кто его рисовал? — думал я, глядя, как цыпленок подпрыгивает на тонких коротеньких лапках. — Кому вообще могла прийти в голову такая бредовая идея?» Амели Моресмо не нуждалась в подобной рекламе, это было ежу понятно, хотя, с другой стороны, почему бы и нет, если над этим можно было искренне, от всего сердца, посмеяться. Короче, цыпленок нас вовсю веселил, Амели была хороша, но ее время прошло, и второй номер мог ввести в заблуждение лишь несведущего человека, далекого от реалий большого тенниса.
Мы много смеялись, слишком много на двоих. Лежа на диване перед большим телевизором, мы упивались великолепной игрой, и каждый удар ракетки по мячу тугим звоном отдавался в наших телах.
— Ты хотел бы оказаться сейчас на корте? — задавала вопрос Таня, и ее подбородок касался моего кадыка, щекоча в этом месте кожу.
— На корте? — переспрашивал я, подушечкой указательного пальца ласково водя по ее плечу. — Сейчас?
Я пытался представить в своих руках ракетку, напряженную фигуру соперника на том конце грунтовой площадки, судью на вышке, разделительную сетку, палящее солнце и свой выдох после хлесткого удара. От этого мне становилось не по себе, меня охватывало томительно-сладкое предвкушение игры, ощущение возможности полета.
— Ты чувствуешь это? — ее шепот проникал в мой слух, и мое «да» тонуло в наступающей тишине в момент подачи, когда любой случайный шорох может помешать правильному исполнению приема.
Да, я чувствовал.
Она перекатывалась, ложилась на меня, прижимаясь ко мне спиной в ожидании парной игры. Начинали мы размеренно, не торопясь, расслабленно перекидывая мяч через сетку, не вкладываясь в удары, как бы разминаясь перед тем, когда можно будет взорваться и показать все, на что ты способен по-настоящему. Она что-то шептала, шептал и я, мы обменивались тайными знаками, выстраивая ближайший розыгрыш на несколько ходов вперед, и эта приобщенность была сродни заговору.
Все заканчивалось в тот момент, когда мне нужно было уходить. За окном моросил холодный питерский дождь, и он был реальнее заходящего парижского солнца.
Таня провожала меня до дверей, мы расставались молча, она улыбалась, и я целовал ее на прощание. Потом выходил за дверь, спускался по гулкой широкой лестнице и нырял в сырой сумрак.