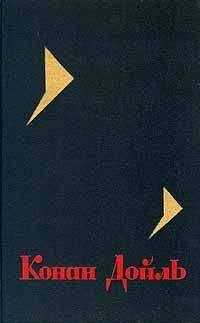Геннадий Гор - Факультет чудаков
И Андре Шар вспомнил, что он ничего не положил в эту руку. Он подал нищему и вернулся обратно, чтобы подать всем предыдущим. Он застал их каждого на том же месте. Почти одинаковых. С одинаково протянутой рукой. Он подал каждому. Теперь у него не оставалось никаких сомнений. Он не стоял на одном месте. Он шел. Но в то же время он не двигался.
Он очутился возле кабачка, где молодые художники его известности и его материального положения имели обыкновение проводить все свое свободное время. Именно очутился без всякой определенной цели. Ему хотелось немного выпить и закусить, но это не могло представлять — цель. С тем же успехом он мог выпить и закусить у себя дома. Ему не хотелось встречаться с знакомыми. Но все же он раскрыл дверь кабачка. Десятки знакомых протянули ему десятки знакомых рук. Он вяло пожал их и сел за отдельный столик в углу. За соседним столиком сидел молодой художник-еврей, недавно приехавший в Париж из Польши и писавший молочно-белых и оранжевых женщин с чудовищно огромными, черными и непостижимыми глазами, женщин, чем-то напоминающих зайцев, и известный торговец картинами, м-сье Дюжарден.
Не было никакого сомнения, что он покупал художника со всеми его руками и ногами, с заячьими глазами его женщин, со всеми настоящими его картинами и будущими, с кровью, мыслями и невыполненными еще замыслами.
— Кровать, которую я вам дам, — шутил торговец картинами, м-сье Дюжарден, — имеет четыре железные ножки и две спинки.
— Отлично, отлично, — кивал головой молодой художник и, сощурив глаз, вторым глазом глядел на дно стакана, улыбаясь, как будто дело шло о чем-нибудь постороннем.
— Одно окно упирается в живописную стену в духе Утрильо, — продолжал м-сье Дюжарден, — но я не хочу прикрашивать действительность: перед самым окном находится помойная яма, задача которой заменять ландшафт. Второго окна, извините, нет. Но оно вам не требуется. Вы, насколько я знаю, не пишете пейзажи, а при электрическом свете глаза ваших женщин выглядят еще таинственнее.
— Отлично. Отлично, — говорил молодой художник, но уже не кивая головой и не улыбаясь.
— Все написанное, нарисованное, вырезанное, включая наброски, разумеется, становятся моей собственностью, — продолжал торговец картинами, м-сье Дюжарден. — Но на случай, если вам вздумается плевать в потолок, у меня есть для вас минимум, четыре картины маслом в сутки, одна акварель, пять или шесть карандашных набросков углем. За все, что будет представлено вами сверх минимума, — премия — бутылка вина по вашему выбору. Условия, надеюсь, приемлемые.
— Отлично, — сказал молодой художник и вскочил с места. Музыка Стравинского ударила во все струны, загремела посудой и, как бешеная лошадь, закусив удила, выбежала на середину зала. Она подняла Андре Шара и поставила его лицом к лицу с молодым художником, безысходная нужда которого заставляла продавать себя.
— Плюньте в самый центр его физиономии, — сказал он, показывая на физиономию м-сье Дюжардена, — в самый центр, в нос, в губы, в глаза, в брови. Или задушите его. Они думают, что им удастся купить настоящее искусство. Я могу немного помочь вам, мое ателье, мои краски, мои холсты к вашим услугам. Приходите и пишите.
— Убирайтесь к черту, — закричал молодой художник, побледнев и подняв руку, чтобы оттолкнуть Андре Шара. — И запомните, что я хочу быть обязанным только самому себе. Запомните это, м-сье Шар.
Андре Шар попятился от их столика и упал в кресло.
Он услышал насмешливую фразу невыносимого торговца картинами, м-сье Дюжардена. Торговец картинами говорил про него и для него.
— Она пьет запоем, эта бездарная личность, — говорил м-сье Дюжарден. — И представьте, имеет наглость воображать из себя чуть ли не самого бога живописи.
Андре Шар повернулся к ним спиной. Он наблюдал. Дирижер, представлялось ему, управлял не оркестром, а всем кабаком. По мановению его дирижерской палочки все посетители кабачка поднимали тяжелые кружки с напитками, подносили их к губам и по мановению палочки выпивали и со стуком ставили кружки на мраморные столики. Андре Шар поймал себя на том, что он не пьет, а только делает вид, что пьет. Он почувствовал себя вне ритма кабачка. Вот все подносят тяжелые кружки к подбородкам, вот все оттопыривают нижнюю губу. Вот все наклоняют головы и, вытянув шеи, как одну шею, вливают все кружки, как одну кружку, в одно горло. А кружка Андре Шара одиноко стояла на столике. Он к ней и не притрагивался. Ему казалось, что он держит за один конец веревки, за другой конец веревки тянет весь кабачок.
«Не могу я один против всех», — и он поднял свою кружку и поднес ее к губам. Ему почудилось, что его движение повторил кто-то другой и что его кто-то передразнил. И в самом деле, на той стене, возле которой он сидел, был изображен человек, без подробностей подносящий кружку к губам. Кружка была изображена гораздо конкретнее, чем человек. Она была написана с какой-то голландской кропотливостью и точностью и была точно настоящая, «живая» кружка в руках фигуры, отдаленно напоминающей человека.
Всей своей неестественной, нарочитой и наглой позой абстрактный незнакомец, написанный на стене, казалось, передразнивал Андре Шара. В присутствии его на стене Андре Шар не видел другого смысла. Но и на других стенах кабачка были изображены другие, но такие же абстрактные люди с очень конкретной и злорадной кружкой. Они передразнивали посетителей кабачка. В противном случае зачем бы они находились на стене. В другое время Андре Шар не замечал их, но ведь и многое из того, что он заметил сегодня, он не замечал в другое время.
Они — изображенные люди, почти не походили на людей, они были слишком абстрагированы, и в то же время они дьявольски походили на пьющих пиво в кабачке, именно этих, а не других людей, они были как бы их отражениями в зеркале. Они показывали бесцельность всех этих людей и тем самым приобретали смысл неожиданный и жуткий, по крайней мере в восприятии Андре Шара.
Он знал, что они были написаны с другой целью случайными художниками, посетителями кабачка, быть может, с целью только позабавить хозяина и тем самым заплатить за выпитое и не оплаченное ими пиво.
М-сье Дюжарден, торговец картинами, сидевший недалеко от Андре Шара, встал, подозвал кельнера и, шумно заплатив за себя и за молодого художника, так, чтобы все видели, что он за него заплатил, быстро прошел мимо Андре Шара, метнув в его сторону взгляд, взгляд, на который Андре Шар не обратил никакого внимания. Он видел только картины на стене и людей за столиками. И ему пришла в голову мысль, которая заставила его встать с места. Он прошелся два или три раза вокруг своего столика и снова уселся на свое место. Он решил. Нужно сдвинуть всех людей, тех, что в кабачке, и всех других с их места, заставить их что-то делать, устыдить их, показать им бессмысленность их жизни и их картин. И это нужно сделать немедленно, не откладывая ни на одну минуту, и это должен сделать он, и никто другой и не другими средствами, а средствами его искусства. Он заплатил кельнеру за выпитое им пиво и стремительно вышел из ресторана.
Но что делать, он хотел заставить людей: конкретно, что делать, Андре Шар еще не знал, да он и не думал об этом.
Когда он подходил к дому, он вспомнил о цели своего выхода из дома. Он шел к людям и к их вещам, чтобы разрушить метафизику своей комнаты и своей жизни. Теперь эта цель по меньшей мере была смешна ему. Теперь он возвращался, чтобы разрушить метафизику не своей комнаты и своей узенькой и маленькой жизни, а метафизику всего буржуазного города. Это должен сделать он, а не кто другой, и доступными ему средствами живописи. Консьержка, похожая на старое черное платье, открыла ему дверь. Казалось, что перед этим она приподняла крышку своего платяного ящика и осторожно, чтобы не помять, вынула самое себя из ящика и, аккуратно закрыв крышку, бесшумно понесла себя открывать дверь. Так много времени прошло прежде, чем она открыла ему дверь. От нее пахло бензином и молью, и она улыбалась своими гниющими губами.
— К вам только что заходил, — сказала она, — человек от Моробье относительно вашей выставки.
— Он обещал зайти еще раз, не правда ли? — спросил Андре Шар. — Скажите ему, что он не застанет меня дома.
В комнате было полутемно, потому что были опущены шторы. Андре Шар поднял их, и комната несколько изменилась. Стало светлее и уютнее. Шар подошел к мольберту. Его немного лихорадило, быть может, от нетерпеливого желания поскорее приняться за работу. Холст, натянутый на подрамник мольберта, был загрунтован позавчера для предстоящей, еще не начатой работы. Грунт высох и слегка блестел. Оставалось только выжать краски из тюбиков на палитру и взять кисть. Андре Шар взял кисть и, выжав из первого попавшегося тюбика с краской немного краски на палитру, провел по холсту две линии: одну и накрест ее пересекавшую другую. Этим он сказал все, что он хотел сказать. Замысел, пришедший ему в голову в кабачке, невероятный замысел, который он непременно должен осуществить, а осуществление замысла должно было вывести людей из повседневного их равновесия, похожего на сон после сытного обеда, осуществленное на обыкновенном холсте и обыкновенными красками, такая вещь в лучшем случае могла бы нарушить спокойствие двух или трех десятков каких-либо снобов и постоянных посетителей левых выставок. Нет, не для снобов он предназначал свою будущую работу.