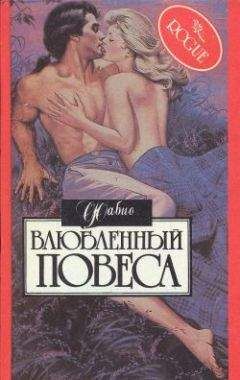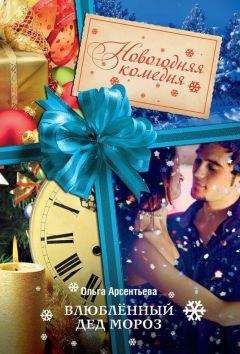Иван Лазутин - Суд идет
— Я жду стихов.
Струмилин, опершись рукой о скамейку и глядя поверх каштанов, начал читать тихо, таинственно:
Черный купол небес в брызгах золота,
Опираясь на груды гор,
Говорит мне о том, что молодость —
Не кафе, не заезжий двор.
Что дорогу назад, в юность-местность
Замело снегом ранних седин,
Что ее золотая окрестность
Огорожена сетью морщин.
— Я не верю! Нет, нет! Эта ложь
Серповидной холодной лунности
Замахнулась, как острый нож,
На мою, на седую юность.
Посуди, виноват ли я,
Что на той, на передней линии
В двадцать лет голова моя
В знойный полдень покрылась инеем.
Коли пишешь свой звездный закон,
То черкни на полях исключение:
Ведь желтеет под грозами клен
И седеют юнцы в сражениях.
А не то — я твои эти сети
И сугробы с пути смету!
Не отдам я на белом свете
Моей юности в белом цвету!
— Великолепно! Прекрасно! Эти стихи написал ваш друг?
— Да, друг. И, представьте себе, написаны они были в карцере концлагеря. Почти перед смертью.
Струмилин тронул Лилю за локоть, и они вышли на освещенную аллею. Некоторое время шли молча.
— Вы случайно не актер? — Лиля подняла на Струмилина смущенный взгляд.
Его худощавое лицо прибалтийца (дед происходил из скандинавских рыбаков) носило на себе печать какой-то печали. Если минуту назад глаза его вспыхнули радостью, когда он увидел Лилю, то теперь они снова погасли.
— Нет, я не актер.
— Кто же вы?
— Обычный рядовой врач.
— Вот бы никогда не подумала! Я считала, что вы человек искусства. Ну, в крайнем случае, литератор или философ. Все, что угодно, только не врач!
— Вы плохо думаете о врачах. А все потому, что вы здоровы, и вам еще нет нужды обращаться к ним.
— Совершенно не поэтому. Просто потому, что мой дальний родственник тоже медик, и он не знает покоя ни днем, ни ночью. От него всегда пахнет йодом и хлороформом.
— Кто он, этот ваш родственник?
— Хирург.
— Как его фамилия?
Лиля сказала неправду, назвав первую, пришедшую на ум фамилию.
— Корольков. Ефим Степанович Корольков.
— Что-то не слышал. А московских хирургов я многих знаю.
Из окон ресторана, мимо которого они проходили, доносились звуки джаза.
— Как вы думаете отметить день рождения?
Струмилин остановился, точно вспомнив что-то очень важное.
— Вы совершенно правы! — Он посмотрел на часы. — Давайте, Лиля, справим его вдвоем.
— Вдвоем?
— Да, вдвоем.
Пожалуй, это была решающая минута, которая потом многое перевернула в жизни Лили. Откажись она идти в ресторан или предложи Струмилину просто погулять по Приморскому бульвару — возможно не было бы всего того, что случилось потом.
— А вы ручаетесь, что это не истолкуют дурно?
— Кто?
— Хотя бы наши товарищи по санаторию?
— Это не осудит даже моя жена, а до остальных мне… — Струмилин, не договорив фразы, решительно взял Лилю под руку, и они направились в ресторан.
После второй рюмки Лиля попросила Струмилина рассказать о своей жене. При слове «жена» Струмилин снова как-то сразу внутренне потух.
— Лиля, не спрашивайте больше о моей жене. О ней я могу сказать единственное — она для меня самый дорогой, самый близкий и родной на всем свете человек. Она для меня сделала очень много в жизни… — Струмилин помолчал, точно прислушиваясь к чему-то, тряхнул головой и продолжал со вздохом: — И может быть, зря! Лучше бы она этого не делала.
Такой неожиданный ответ озадачил Лилю.
— Почему вы не вместе отдыхаете?
— Ей нельзя. Она лежит в больнице.
— И вы смогли ее оставить? А сами поехали на курорт?
— Да, оставил, а сам поехал на курорт.
— Но ведь это…
— Я знаю, что вы хотите сказать. Только это напрасно. Я никуда не хотел ехать, на этом настояла жена. Самое горькое для нее было бы, если бы отпуск свой я провел в Москве. В санаторий она меня буквально прогнала, молила со слезами.
— Что с ней?
— Она тяжело больна. Гипертония, сердце… А потом нервы никуда не годятся.
— Она молодая?
— Ей двадцать восемь лет.
— Николай Сергеевич, я обещаю: все, что вы скажете, будет для меня свято. Но я прошу, скажите, что она сделала такое, за что вы ее боготворите?
— Не нужно, Лиля. Воспоминаниями своими я боюсь испортить вам вечер. В этом рассказе будет больше печального, чем радостного.
— Николай Сергеевич, неужели я из тех, кого нужно только веселить? — Во взгляде Лили вспыхнули искорки упрека.
— Нет, я не думаю так, но мне просто трудно говорить об этом. Тут всплывет все: война, госпитали, плен…
— Вы были в плену?
— Да, я был в плену.
— И долго?
— Три года.
— И там вы познакомились с женой?
— Да… Почти.
— Ох, как это интересно! — Лиля всплеснула руками, но тут же устыдилась — радость ее была не совсем уместна. — Вы извините меня, Николай Сергеевич, за мою выходку! Я просто хочу узнать о вас немножко больше.
Струмилин налил себе рюмку водки, Лиле — сухого вина.
— Давайте выпьем за таких друзей, которые знают цену дружеского долга.
— За друзей! — поддержала Лиля, и они чокнулись.
Струмилин запил водку нарзаном и закурил. Лиля тоже закурила. Глядя на Струмилина, она выпустила красивое кольцо дыма.
А Струмилин, подперев голову ладонью, смотрел куда-то через плечо Лили, туда, где на стене была нарисована темная скала и разбившаяся в пенные брызги волна.
— Наш полевой госпиталь попал в окружение под Смоленском. Это были тяжелые дни отступления. Вместе со мной в хирургическом отделении работала и Лена.
— Лена?
— Да, моя теперешняя жена. — Струмилин перевел взгляд на открытое окно, за которым бушевала говорливая вечерняя Одесса. — Вместе с тысячами других пленных нас привезли в одном эшелоне в Дрезден. До места назначения доехали не все, многие погибли в дороге: от болезней, от голода. Некоторые были расстреляны за малейшее неповиновение или просто за то, что ослабли духом и телом. Лена переносила плен легче других. Дорогой она помогала ослабевшим. — Струмилин помолчал, закурил и продолжал: — А потом… Что было потом — об этом нужно рассказывать долго. Об этом нужно не рассказывать, а писать романы. Такие романы, над которыми заплачут камни. Я работал на химическом заводе в Дрездене, Елена в это время работала у бауэра. Дважды спасала она меня от голодной смерти, дважды устраивала мне побег. За один из них она поплатилась…
— Ее жестоко наказали?
— Да, ее наказали на всю жизнь.
Скорбное выражение лица, с которым были произнесены эти слова, тронули Лилю. Расспрашивать дальше она не решалась. А захмелевший Струмилин рассказывал:
— Если бы наши части пришли в Гамбург днем позже, она вряд ли бы осталась живой.
— А теперь? Это, очевидно, сказывается на ее здоровье? — осторожно вставила Лиля.
— Теперь она тяжело больной человек. А в прошлом году в придачу ко всем ее несчастьям у нее отняли ногу. Вы представляете, что значит женщине потерять ногу?
— Это ужасно! Это ужасно! — Лиля приложила ладони к пылающим щекам. В эту минуту ей были противны бессмысленно улыбающиеся физиономии разомлевших от вина и чада женщин, которые, положив оголенные руки на плечи своих кавалеров, под звуки хохочущего саксафона плыли между столиками в голубоватых облаках папиросного дыма.
Кто-то в углу окончательно захмелел, буйно стучал кулаком по столу и выкрикивал:
— Нет, позвольте!.. Я не согласен!.. Вы бросьте мне эти штучки!
— Пойдемте, Николай Сергеевич, отсюда! Здесь так душно, а потом уже поздно.
Струмилин поднял на Лилю печальный взгляд. Кажется, он не слышал последних слов Лили.
— Вот видите, как в жизни бывает все просто и не всегда красиво. А чаще — тяжело. Позвольте мне заказать еще вина?
— Нет-нет, Николай Сергеевич, уже достаточно, мы и так много выпили. Я совсем пьяна и не знаю, как мы будем добираться до санатория.
Струмилин вылил оставшуюся водку в фужер и, не чокаясь с Лилей, выпил.
Они вышли из ресторана. Дерибасовская улица не умолкала. Со стороны моря тянул солоноватый, с запахами мазута и гари ветерок. Слышно было, как море своим крутым девятым валом накатисто билось о берег.
С Дерибасовской Лиля и Струмилин свернули на Приморский бульвар. Оба молчали и оба не чувствовали тягости от этого молчания.
Остановившись у каменной балюстрады, за которой шел крутой спуск вниз, Лиля стала пристально вглядываться в темноту, где глухо ворочалось и жило своей извечно неспокойной жизнью Черное море.
У пристаней и причалов горели огни. Цепочка огней тянулась и над узкой насыпной дамбой, которая тонкой змейкой убегала в темную и тяжелую, как расплавленный гудрон, бухту.