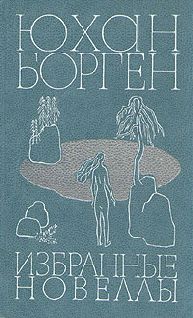Юхан Борген - Теперь ему не уйти (Трилогия о маленьком лорде - 3)
Нет, я не хотела показываться ему, не думала выходить из-за спасительной стены часовни. Назад он пойдет другим путем. И мы расстанемся, не повидавшись.
И тут я выступила вперед. Сердито взглянула я на скворчиху - другую легкомысленную особу, искавшую его общества. Я видела, как птица озлилась. Сидя на могильном кресте, надменно вскинула свою шальную головку.
Но тут же вскинул голову сам Вилфред. Впрочем, в тот миг я не видела его лица. Солнце обвело его голову золотым венцом. И венец я видела - не его самого.
Но когда он двинулся мне навстречу своей всегдашней легкой походкой о, как хорошо я помнила эту легкость, ведь она тоже была мне противна, - я впилась глазами в его лицо, в стройное его тело, столь удручающе готовое к чему угодно - обнимать, ласкать или принимать ласки. Я подумала: он ведь был чем-то вроде альфонса, всего лишь несколько лет назад. Тогда, в Копенгагене, когда он ввалился ко мне в артистическую уборную при концертном зале, весь избитый, в крови. Он был так жалок тогда, и я помогла ему. Но мне больше не хотелось его видеть. Мне и сейчас не хочется его видеть.
Так думала я, а сама между тем сделала несколько шагов к нему. Совсем немного шагов пришлось мне сделать. Потому что он быстро шел мне навстречу, точнее, мчался. И когда он схватил меня в объятья - там, на усыпанной гравием дорожке под низкими лиственницами у могилы, - я все еще старалась хранить суровость, но, как видно, не преуспела в этом. Наши губы слились против нашей воли. Оба мы были застигнуты этим врасплох. Кладбищенский сторож заставил нас очнуться. Мы не слышали, как он подошел, хотя гравий, должно быть, скрипел под его шагами. Он схватил нас за плечи и в буквальном смысле слова оторвал друг от друга. Вот чем обернулось все это. Он был оскорблен, он негодовал: мыслимо ли столь непристойно вести себя на освященной земле...
Вилфред попросил у него прощения. Он просил прощения с той детской серьезностью, перед которой никто не мог устоять. Сторож перестал браниться. Совсем напротив, он вдруг произнес нечто вроде пожелания, которого я не поняла, - видела лишь, что губы Вилфреда дрожат от сдерживаемого смеха. После, когда я спросила его об этом, он ответил, что такие слова говорятся в мужской компании, они непристойны, но их употребляют не в прямом смысле.
Помню наше медленное шествие мимо желтых гипсовых ангелов, кипарисовых рощиц, мимо сверкавших на солнце гранитных крестов.
Медленное шествие к выходу. Каждый шаг был напоен ожиданием следующего волшебного шага бок о бок с ним. Он поддерживал меня за локоть, чуть заметно прижимая его к себе, и уже это само по себе было лаской, сама близость его была лаской, как и смутное, молчаливое взаимопонимание между нами, столь долго искавшими друг друга. Когда мы наконец вышли на улицу, я будто впервые увидела его. Он похудел, под глазами круги, но в глазах был яркий блеск, словно его взору без конца представлялись прекрасные видения.
- Ты очень любил его? - спросила я.
Он слегка помедлил с ответом:
- Да, наверно, очень.
Какое-то озорное, лихое чувство подхватило меня, кажется, я чуть приревновала его, как тогда - к скворчихе. Я спросила:
- А что, он был хороший художник? - разумеется, не без ехидства.
Он ответил:
- Какой уж там художник. Он был просто любитель. Верный любитель, поклонник искусства. Ему я обязан всем, что умею, если вообще считать, что я умею что-то...
Мы спустились вниз по улице Рокет, потом шли другими улицами, которых я не знала. Мне впервые довелось гулять по этим улицам, и все было мне в диковинку: церковь и фонтан, подсвеченный солнцем. Но ведь я вообще впервые в жизни гуляла. Мои крепкие ноги все эти годы мчали меня то туда, то сюда, но разве я гуляла? Разве я ощущала когда-нибудь, как проникают в меня соки земли - сквозь асфальт и все прочее, - наполняя все мое существо сладостной негой?..
Никогда. Никогда. Потому что меня не было до этого дня, я еще не жила. Я шла рука об руку с ним и рождалась на свет. Но я не находила слов выразить мою радость, потому что радостью дышал вокруг нас воздух, и радостью дышали голуби, срывавшиеся вниз с карнизов домов, и пели о ней машины вместо меня, выпевали радость мелодичными гудками, и светились радостью люди, шедшие нам навстречу, - ярким светом светились их лица, говорившие то, что мне уже не нужно было говорить. Самые вдохновенные слова поэтов померкли, забылись. Слово поэта должен бы сказать он, ведь он был поэт - и поэт тоже. Но я не хотела нарушать его скорбь... Тут вдруг он остановился и сказал - но, право, это не было слово поэта:
- Наверно, ты тоже чертовски голодна?
Конечно же, он знал кафе тут неподалеку. Почему - конечно? Потому, что в тот день все складывалось само собой. Он не искал, не расспрашивал, не выбирал. И не было нужды с озабоченным видом изучать меню. Он угадывал мои вкусы, а официант угадывал его желания. В нем жила та радость, что сообщается другим без слов, и властность, которой покорялись все. Все покорялись ему; казалось, мы произвели переворот в маленьком ресторанном мирке, мы - двое скромных, нетребовательных жителей огромного города. Приветливость и дружелюбие звучали в его словах, и, согретые ими, люди наперебой старались ему угодить. А он будто излучал свет, и все они ощущали это - и тот, что наполнял вином наши бокалы, и тот, что подавал нам обед, и цветочница, продававшая фиалки, и уличный певец, которого поначалу хотели прогнать... Мы видели, как официант на бегу чмокнул в щеку буфетчицу.
- Это моя жена, - извинился он, проносясь мимо нас.
- А это - моя! - сказал Вилфред и вытер мне рот салфеткой, прежде чем запечатлеть на нем долгий поцелуй...
- Тебя здесь знают? - спросила я. Я не могла говорить ни о чем серьезном, - только о совершеннейших пустяках, лишенных значения. И то, о чем я спросила, тоже не имело значения, разве что ревность снова кольнула в сердце.
- Тебя знают! - весело ответил он. - Знают двух счастливых мошек...
- Мне всюду мерещатся скворцы, - сказала я, - противные скворцы!
- Мы шли на запад, - сказал он, - и солнце светило нам в глаза. Все от солнца...
Он заметил, что мы шли на запад. Подозрительность снова шевельнулась во мне. Значит, он сохранил ясность мысли, когда я вся была будто в тумане.
- Даже когда меня повезут на кладбище, я и то буду знать направление, сказал он. И я вспомнила его дар угадывать чужие мысли и чувства.
- После, - сказал он, - когда я буду провожать тебя домой, мы пойдем еще дальше на запад.
Я подумала: "Он проводит меня домой... сегодня вечером; неужто это все тот же день? Неужто это тот же самый день, когда я стояла перед зеркалом и пудрилась в коридоре английского пансиона на улице Президента Вильсона? Тот же самый день, когда я решила пойти на похороны - просто, чтобы присутствовать там, может, даже, чтобы увидеть Вилфреда, только, уж конечно, не для того, чтобы он увидел меня, и, уж конечно, не для того, чтобы встретиться с ним, а может, все же, чтобы встретиться с ним, поздоровавшись, выразить сочувствие и затем сразу уйти, ну, самое большее, минуту поговорить с ним у какой-нибудь могилы, в крайнем случае вместе пройти мимо памятников к выходу, все время сохраняя рассеянную отчужденность, - так обычно старые друзья вместе покидают кладбище после утраты... Неужто это все тот же день? И он сказал: "Домой"...
Мы вместе пошли "домой" - к дому, который уже был мной покинут, который - я это знала, скоро будет покинут, - как только он меня позовет. Я самостоятельный человек, артистка. Я была самостоятельным человеком, сколько себя помню. Но теперь вдруг утратила всю свою самостоятельность. И все же, когда он хотел было взять такси, у меня достало воли сжать его руку, чтобы удержать его, впрочем, он этого и ожидал. Он знал, что я люблю ходить пешком. Он сам любил ходить пешком. Мы с ним только и делали, что вместе ходили пешком в ту пору нашего первого знакомства. Как-то раз в парке, позади Ураниенборгской церкви, мы вдвоем любовались Северным сиянием, и оно будило в наших душах тоску. Он поцеловал меня, а когда кончился поцелуй, оказалось, что мы стоим по колено в снегу.
А потом - потом была одна грусть. Нет, разве? Мои успехи... я даже забыла о них. Каждый из нас в своей области понемногу шел в гору, и каждый оступался и падал. Только, пожалуй, я шла упорней, во всяком случае, ровнее его, потому что он оступался так часто...
Он сказал:
- Я был на твоем концерте.
- Я знаю.
- Ты видела меня?
- Я знала, что ты там. И что, тебе не понравилась моя игра?
- Ты робела. Какая-то скованность мешала тебе. В Лондоне ты была смелее.
- Я играла, как ученица.
- Кроме "Рондо". Тут ты осмелела.
- Да, я осмелела. Ты и это расслышал?
- И увидел тоже. По тебе ведь все видно. Когда ты шла мне навстречу на кладбище...
- Что же ты не договариваешь?
- Ты меня ненавидела!
Я сказала, подумав:
- Не очень сильно!
- Но все же немножко.
- А ты знал, что я на кладбище?