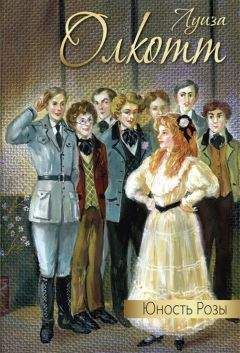Анри Барбюс - Ясность
Головы приподымаются, на лицах любопытство, все предвкушают, что он пустится в свои бесконечные рассуждения.
- Тише, ребята! Он сейчас затянет насчет милитаризма! - возвещает один озорник по прозвищу Зяблик; я уже отметил его живой ум.
- Взять хотя бы вопрос о милитаризме... - продолжает Термит.
Хохочут, глядя на косматого карлика, который в сумерках на соломе выкрикивает, как на митинге, громкие слова, жестикулирует, отбрасывая китайские тени на затянутое паутиной оконце.
- Уж не хочешь ли ты сказать, - спрашивает кто-то, - что боши не милитаристы?
- Понятно, милитаристы, - должен был признать Термит.
- Вот и загнали тебя в угол! - не унимается Зяблик.
- А я, брат, - говорит один ополченец, отличный солдат, - я не гляжу так далеко и не такой умник, как ты. Я знаю, что на нас напали, а мы только одного и желаем, чтобы жить спокойно и в мире со всеми. Да вот для примера у нас в Крезе, я знаю...
- Знаешь? Ничего ты не знаешь! - яростно вопит Термит. - Ты просто жалкая домашняя скотина, как и миллионы товарищей. Они нас собирают, но они нас разъединяют. Они что хотят, то и говорят нам, или ничего не говорят, а ты им веришь. Они говорят: "Вот что должно запасть тебе на ум!" Они...
Глухое возмущение против Термита, тот же самый инстинкт, который некогда заставил меня наброситься на его единомышленника Брисбиля, снова проснулся во мне. Я прервал его:
- Кто это "они"?
- Короли, - говорит Термит.
В эту минуту силуэт Маркасена показался на серой улице.
- Тише! Шкура идет!.. Заткни глотку! - советует сердечно один из присутствующих.
- Не боюсь я говорить то, что думаю, - заявляет Термит, сразу же понизив голос, и ползком пробирается через ворох соломы, отделявшей наше стойло от соседнего.
Хохот. Марга серьезен.
- Всегда были и будут, - сказал он, - две породы людей: бунтари и покорные.
Спрашивают:
- Зачем же он пошел добровольцем, этот дядя, а?
- Жрать нечего было, - ответил ополченец, выражая общественное мнение.
Сказав это, старый солдат зевнул, встал на четвереньки, оправил под собой солому и прибавил:
- Нечего голову вешать, и пусть себе делают, что хотят. Все равно ничем ведь этому не поможешь.
Надо ложиться спать. Хлев открыт с двух сторон. Но не холодно.
- Кончились ненастные дни, - говорит Ремюс. - И больше не вернутся.
- Давно пора! - говорит Марга.
Легли вповалку. Кто-то в темном углу погасил свечу.
- Поскорей бы война кончилась! - бормочет Оранго.
- Хоть бы уважили мою просьбу и перевели в самокатчики, - откликается Марга.
Смолкаем; каждый таит ту же великую смутную мольбу и еще какую-нибудь маленькую жалкую просьбу, как Марга. Ночь тихо окутывает нас на соломе; засыпаем.
* * *
На краю деревни, в длинном розовом доме жила очаровательная фермерша; когда она улыбалась, глаза ее щурились. После дождей и туманов, в дни ласковой юности года я смотрел на нее всей душой. У нее был маленький нос, большие глаза и нежный светлый пушок, словно брызги золота, на верхней губе и шее. Муж ее был мобилизован. За ней ухаживали. Она мимоходом улыбалась солдатам, болтала с унтерами, а перед офицерами замирала в почтительном молчании. Я думал о ней и забывал писать Мари.
Многие, говоря о фермерше, спрашивали: "Можно чего-нибудь добиться?" Но многие отвечали: "Ничего нельзя добиться". Одним погожим утром, в овине, после завтрака, мои товарищи покатывались со смеху, потешаясь над пьяным однополчанином; они поддразнивали его и угощали вином, чтобы поддержать в нем опьянение и вволю позабавиться. Наивное веселье, подобное тому, какое вызывал Термит, разглагольствуя о милитаризме и вселенной, не увлекало меня, и я вышел на улицу.
Я шел по отлогой мостовой. Из садов и огородов почки протягивали множество зеленых, еще крепко сжатых крошечных рук, и яблони были в белых розах. Весна спешила. А вот и розовый дом. Он стоял один на дороге, и казалось, притягивал к себе все солнце. Я колебался. Прошел мимо. Невольно замедлил шаг, остановился и вернулся к двери. Не помню, как вошел.
Первое - свет! На красных плитках пола горел солнечный квадрат. Кастрюли, тазы сверкали.
Она была там! Стоя у крана, она подставила под серебристую струю ведро, отражавшее красные кафели пола и золотую медь. Руки и шея ее были обнажены, и кожа казалась влажной в зеленоватых отсветах стекол окна. Она увидела меня, улыбнулась.
Я знал, что она улыбалась всем. Но мы были одни! Я почувствовал сумасшедшее желание. Что-то властное вопреки моей воле подымалось во мне и насиловало ее образ. С каждой минутой она становилась все прекраснее. Тугое платье подчеркивало ее формы, юбка колыхалась над глянцевитыми сабо. Я смотрел на ее шею, на пленительную линию груди. Острый запах шел от ее плеч, казалось, он открывал истинную сущность ее тела. Я неуклюже подошел к ней, не зная, что сказать.
Она чуть опустила голову в венце густых кос, нахмурила брови; в глазах промелькнула тревога. Ей была знакома ребяческая мимика ослепленных мужчин. Но эта женщина была не для меня! Сухой смех ее хлестнул меня, она скользнула за порог, и дверь захлопнулась перед моим носом.
Я открыл дверь, я побежал за ней в сарай. Я лепетал что-то, я догнал ее, протянул руку. Она увернулась; она ускользала от меня навсегда... Но ужав остановил ее.
Стены вдруг сдвинулись с грохотом и визгом; в потолке зазияла дыра, и все потонуло в черном огне. Дыхание вулкана отшвырнуло меня к стене, опалило глаза, я был оглушен, в мозгу стучало молотом, вокруг меня рушились камни, и я увидел, как подбросило в воздух женщину, фантастически окутанную красным и черным, закружило в белом и красном хаосе белья и платья, и что-то огромное, двуногое, нагое, с вывороченными кишками, ударило меня по лицу и залило рот кровью.
Я чувствовал, что кричу, всхлипываю. Под гипнозом страшного поцелуя; омерзительного объятия, сдавившего мою руку, протянутую к красоте этой женщины, ошеломленный смерчем пара и золы и чудовищным, величаво затихавшим грохотом, я выбрался из этих стен, которые шатались, как и я. Дом рухнул. Я бежал по содрогавшейся земле, за мной гнались обезумевшие камни, вопли развалин и, подобные взмахам гигантских крыльев, вихри пыли при обвалах.
Ураган снарядов обрушился на этот край деревни. Поодаль солдаты сокрушались, глядя на домик, который только что раскололся надвое. К нему нельзя было подойти: страшный свист взрывал вокруг него землю и забрасывал стальными осколками. Мы стояли под прикрытием стены, и при вспышках искусственной грозы он возникал перед нами под сводом клубящегося пара.
- Ты весь в крови! - сказал кто-то из товарищей, испуганно глядя на меня.
Остолбенев от ужаса, еще не собравшись с мыслями, я смотрел на этот домик с раздробленными костями, на этот дом человеческий.
Он раскололся сверху донизу, фасад рухнул. Видны были гнезда обугленных комнат и геометрическая линия труб; пуховик, похожий на кишку, лежал на остове кровати. В первом этаже уцелело несколько половиц, они повисли над развалинами, и там виднелись трупы двух офицеров, пригвожденных осколками к столу, за которым они завтракали в момент взрыва: изысканный завтрак, судя по тарелкам, стаканам и бутылке шампанского.
- Это лейтенант Норбер и лейтенант Ферьер.
Один из этих призраков стоял, улыбаясь; рот его стал вдвое шире из-за раны, расколовшей голову; рука была поднята заздравным жестом, застывшим навсегда. Другой сидел, облокотившись на стол, застланный красной, как кумач, скатертью, до ужаса внимательный; лицо его было залито кровью, он весь был в мерзких пятнах, но красивые белокурые волосы были нетронуты. И среди этого разгрома оба они походили на изуродованные статуи юности и жизни.
- А вот и третий! - крикнул кто-то.
Раньше мы его не заметили, он висел в воздухе, у стены, зацепившись штанами за балку, руки его болтались. Он казался вытянувшейся тенью кровавого пятна на белой стене. Каждый новый взрыв подбрасывал его и осыпал осколками; казалось, смерть облюбовала его и обрушила на него слепые силы уничтожения.
Было что-то гнусное и горестное в этом трупе, повисшем в позе картонного паяца.
Мы слышим голос Термита.
- Ах, бедняга! - говорит он и выходит из-под спасительного прикрытия.
- С ума ты сошел! - кричат ему. - Ведь он уже помер!
Рядом стояла лестница. Термит схватил ее, поволок к развалинам, на которые ежеминутно обрушивался град осколков.
- Термит! - крикнул лейтенант. - Не смейте туда ходить! Ни к чему!
- Господин лейтенант, я хозяин своей шкуры, - ответил Термит, не останавливаясь, не оборачиваясь.
Он приставил лестницу, влез, отцепил труп.
Вокруг него о штукатурку били волны оглушительных взрывов и белые молнии. Он ловко спустился с телом, положил его на землю - оно так и осталось там, согнутым, - побежал к нам и наскочил на капитана, который видел всю эту сцену.
- Ну, друг мой! - сказал ему капитан. - Говорят, вы анархист. Но я вижу, что вы храбрец, а это уже добрая половина француза.