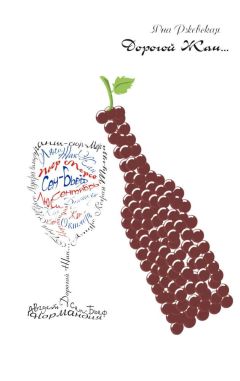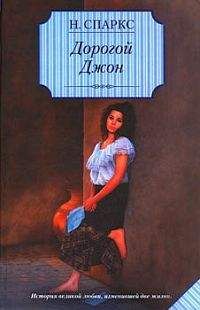Джон Голсуорси - Девушка ждёт
– Он очень славный, Динни, – сказала леди Монт. – Старого закала, галантен, очень мило картавит. Какая жалость, что у них нет ни гроша. Джин очень эффектна, правда?
– Я ее немножко боюсь, тетя Эм, – слишком уж она. хорошо знает, чего хочет.
– Сватовство, – ответила тетя Эм, – это так увлекательно. Давно я этим не занималась. Воображаю, что скажут Кон и твоя мать. Мне теперь, наверно, по ночам будут сниться кошмары.
– Сначала попробуй поймать на приманку Хьюберта.
– Я его всегда любила; у него наша фамильная внешность, – а у тебя нет, Динни, не понимаю, откуда ты такая светлая, – и он так хорошо сидит на лошади. Кто ему шьет бриджи?
– По-моему, у него не было ни одной новой пары с самой войны.
– И такие милые длинные жилеты. Эти обрезанные по пояс жилеты так укорачивают. Я пошлю его с Джин посмотреть цветники. Ничто так не сближает, как портулак. А! Вот Босуэл-и-Джонсон – он-то мне и нужен!
Хьюберт приехал в первом часу и сразу же объявил:
– Я раздумал печатать дневник, Динни. Слишком уж противно выставлять напоказ свои болячки.
Радуясь, что она еще ничего не успела предпринять, Динни кротко ответила:
– Хорошо, милый.
– Я вот что подумал: если мне не дадут назначения здесь, я могу поступить в суданские войска или в индийскую полицию – там, кажется, не хватает людей. С каким удовольствием я бы опять уехал из Англии! Кто тут у них?
– Только дядя Лоренс, тетя Эм и тетя Уилмет. К обеду придет священник с детьми – это Тасборо, наши дальние родственники.
– А! – мрачно отозвался-Хьюберт.
Динни наблюдала за появлением семейства Тасборо не без злорадства. Хьюберт и молодой Тасборо немедленно обнаружили, что служили в одних и тех же местах в Месопотамии и Персидском заливе. У них завязался разговор. Но тут Хьюберт обнаружил Джин. Динни заметила, как он бросил на нее долгий взгляд, удивленный, недоверчивый, словно увидел какую-то необыкновенную птицу, потом отвел глаза, снова о чем-то заговорил и засмеялся, опять посмотрел на нее и уже не мог отвести глаз.
Динни услышала голос тети:
– Хьюберт очень похудел.
Священник развел руками, словно выставляя напоказ свою внушительную комплекцию.
– В его возрасте я был куда худее.
– Я тоже, – сказала леди Монт, – такая же тоненькая, как ты, Динни.
– Приобретаем ненужные накопления, ха-ха! Поглядите на Джин, – гибкая, как тростинка, а лет через сорок… Но, может, нынешняя молодежь никогда не растолстеет. Они ведь сидят на диете… xa‑xa!
За сдвинутым обеденным столом священник сидел против сэра Лоренса, между обеими пожилыми дамами. Алана посадили против Хьюберта, Динни – против Джин.
– Хлеб наш насущный даждь нам днесь…
– Забавная штука эта молитва, – сказал молодой Тасборо на ухо Динни. – Благословляют убийство, правда?
– Нам подадут зайца, – сказала Динни, – а я видела, как его убивали. Он плакал, как ребенок.
– Я бы лучше съел собаку, чем зайца.
Динни бросила на него благодарный взгляд.
– Вы приедете с сестрой погостить к нам в Кондафорд?
– Только мигните!
– Когда вам надо вернуться на корабль? Через месяц.
– Вы, наверно, любите свою профессию?
– Да, – просто ответил он. – Это у меня в крови, у нас в семье всегда был моряк.
– А у нас солдат.
– Ваш брат молодчина. Я ужасно рад, что с ним познакомился.
– Не надо, Блор, – сказала Динни дворецкому, – дайте, пожалуйста, кусочек холодной куропатки. Мистер Тасборо тоже предпочитает что-нибудь холодное.
– Говядину, сэр, баранину или куропатку?
– Куропатку, пожалуйста.
– Как-то раз я видела, как заяц моет уши, – сказала Динни.
– Когда вы такая, – заявил молодой Тасборо, – я просто…
– Какая?
– Как будто вас здесь нет.
– Спасибо.
– Динни, – окликнул ее сэр Лоренс, – кто это сказал, что мир замкнулся в своей раковине, как устрица? А я говорю, что он закрылся в своей раковине, как американский моллюск. Ты как думаешь?
– Я не знаю, что такое американский моллюск, дядя Лоренс.
– Тебе повезло. Эта пародия на его добропорядочную европейскую разновидность – осязаемое доказательство того, что американцы – идеалисты. Они возвели этот символ своей обособленности на пьедестал и даже стали употреблять его в пищу. Когда американцы от него отрекутся, они начнут смотреть на вещи более реально и войдут в Лигу наций. Но нас к тому времени, увы, уже не будет.
Динни следила за выражением лица Хьюберта. Озабоченность слетела с него; глаза были прикованы к глубоким манящим глазам Джин. У Динни вырвался вздох.
– Вот именно, – сказал сэр Лоренс, – жаль, что мы не доживем до той поры, когда американцы отрекутся от моллюска и кинутся в объятия Лиги наций. Ведь в конце концов, – продолжал он, вздернув левую бровь, – она была основана американцем и является единственным сколько-нибудь разумным порождением нашей эпохи. Но она по-прежнему остается самым страшным пугалом для другого американца, по имени Монро, который умер в тысяча восемьсот тридцать первом году; а такие, как Зазнайка, никогда не упоминают о ней без издевки.
Пинок, попрек и еще раз пинок.
Насмешек немного, но зато каких!
Знаешь это стихотворение Элроя Флеккера?
– Да, – с удивлением сказала Динни, – оно приводится в дневнике Хьюберта; я читала его лорду Саксендену. Как раз на этом он и заснул.
– Это на него похоже. Но не забудь, Динни, – Зазнайка чертовски хитрый субъект и знает, что к чему в этом мире. И как бы ни был противен тебе этот мир, никуда ты из него не денешься, недаром десять миллионов более или менее молодых людей недавно сложили в нем головы. Не помню, – задумчиво заключил сэр Лоренс, – когда это я так вкусно ел в собственном доме, как в последние дни; на твою тетю что-то нашло.
Собирая после обеда партнеров для партии в крокет – она сама и Алан Тасборо играли против его отца и тети Уилмет, – Динни краешком глаза видела, как Хьюберт и Джин направились к цветникам. Они тянулись от нижней террасы парка до старого фруктового сада, за которым поднимались холмистые луга.
«Ну, эти двое на портулак заглядываться не станут», – подумала Динни.
И действительно, они успели сыграть две партии, когда совсем из другой части парка показались погруженные в беседу Джин и Хьюберт. «Ну и ну, – подумала Динни, изо всех сил ударяя по шару священника, – вот это быстрота и натиск».
– Господи, спаси! – простонал потрясенный священнослужитель, а прямая, как гренадер, тетя Уилмет провозгласила на весь парк:
– Черт возьми, Динни, что ты вытворяешь!
Позднее, сидя рядом с братом в открытой машине, Динни пыталась привыкнуть к мысли, что отходит для него на второй план. Все произошло так, как она сама хотела, и все-таки ей было грустно. До сих пор она была Хьюберту ближе всех. Видя, как на губах у него то и дело мелькает безотчетная улыбка, она призывала на помощь всю свою рассудительность.
– Ну, что ты скажешь о наших родственниках?
– Он славный парень. По-моему, он к тебе неравнодушен.
– В самом деле? Когда мы их пригласим?
– Когда угодно.
– На той неделе?
– Хорошо.
Убедившись, что ничего из него не вытянет, Динни принялась наслаждаться медленным угасанием света и красоты погожего дня. Возвышенность, уходившую в сторону Уэнтеджа и Фарингдона, заливали косые лучи солнца, а впереди грозно возвышались Уиттенхемские скалы. Свернув направо, они въехали на мост. Посреди моста она коснулась плеча Хьюберта.
– Помнишь, вон там наверху мы видели зимородков.
Остановив машину, они полюбовались на пустынную гладь реки, словно созданную для этих веселых птиц. Заходящее солнце кропило ее яркими бликами сквозь ветви ив на южном берегу. Казалось, в этой самой тихой реке на свете любое душевное движение человека найдет свой отклик; ничем не нарушая царившего здесь покоя, плавно текла она прозрачной лентой средь золотых полей и грациозных, никнущих к ней деревьев; река жила своей собственной жизнью, полная ласковой силы, прекрасная и величавая.
– Три тысячи лет назад, – сказал Хьюберт, – эта старая река была как те, что я видел в джунглях: хаотический поток во мраке лесной чащи.
Они снова тронулись в путь. Теперь они ехали спиной к солнцу, и все вокруг выглядело как нарочно для них написанный пейзаж.
Они мчались, а небо рдело отсветом заходящего солнца, и убранные поля, над которыми проносились птицы, собиравшиеся на ночлег, постепенно темнели и казались совсем заброшенными.
У ворот усадьбы Кондафорд Динни вышла из машины и, заглядывая брату в лицо, принялась вполголоса напевать: «Она была пастушка, но, боги, как прекрасна!» Впрочем, он возился с машиной и как будто не понял намека.
Глава двенадцатая
Трудно понять душу молодого англичанина молчаливого склада. Разговорчивого раскусить куда легче. Его привычки и нрав сразу бросаются в глаза и мало влияют на жизнь империи. Горластый, недалекий, вечно недовольный всем и вся, признающий только себе подобных, он напоминает марево, которое мерцает над поверхностью болота и скрывает трясину под ногами. С неизменным блеском витийствует он впустую, тогда как те, кто всю жизнь не щадит себя в интересах дела, никому не видны, но зато имеют вес; ведь чувство, о котором кричат на всех перекрестках, перестает быть чувством, а чувства невысказанные крепнут в душе. У Хьюберта не было ни солидности, ни флегмы, – даже эти спасительные черты человека молчаливого у него отсутствовали. Образованный, впечатлительный и неглупый, он мог бы высказать о своих ближних и о жизни здравые суждения, которые удивили бы людей разговорчивых, но он хранил их про себя. До недавних пор у него к тому же не было для болтовни ни времени, ни возможностей; впрочем, встретив его в курительной, за обеденным столом или в любом другом месте, где орудуют крикуны, вы сразу же видели, что, даже будь у него сколько угодно времени и возможностей, он все равно не превратился бы в болтуна. Он рано ушел на войну, остался в армии, и это помешало ему расширить свои горизонты пребыванием в университете или в столице. Восемь лет в Месопотамии, Египте и Индии, год болезни и экспедиция Халлорсена ожесточили его, сделали нелюдимым и скрытным. Как все люди его склада, он не выносил праздности. Когда он бродил с ружьем и собакой или катался верхом, жизнь еще казалась ему сносной; но без этих любимых занятий он чахнул на глазах.