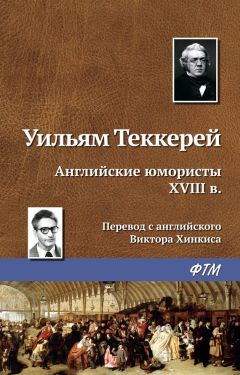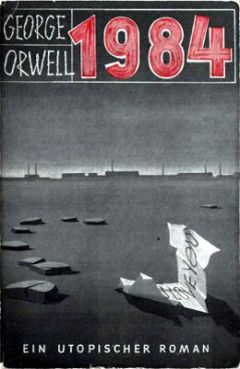Уильям Теккерей - Английские юмористы XVIII века
Аддисон писал свои заметки весело, словно отправлялся на праздник. Когда "Болтун" Стиля впервые затеял свою болтовню, Аддисон, живший в то время в Ирландии, подхватил выдумку своего друга и стал присылать статью за статьей, отдавая все возможности своего ума, все сладкие плоды своей начитанности, все чудесные зерна своих каждодневных наблюдений с удивительной щедростью, и это плодородие казалось неиссякаемым. Ему было тридцать шесть лет: он находился в расцвете сил. Он не спешил снимать со своего ума урожай за урожаем, торопливо унаваживая и бесстрастно вспахивая его - жатва, сев и снова жатва, - как другие неудачливые земледельцы от литературы. Он написал немного: несколько латинских стихотворений - изящную пробу пера; скромную книгу путевых заметок; трактат о медалях, не слишком глубокого содержания; трагедию в четырех актах, монументальный классический труд; и "Поход", большую хвалебную поэму, за которую получил немалую мзду. Но когда его друг придумал "Болтуна", Аддисон нашел свое призвание, и самый восхитительный собеседник в мире заговорил. Он ни во что не углублялся слишком; пускай люди глубокого таланта, критики, привыкшие погружаться в бездны, утешаются мыслью, что он просто _не мог_ проникнуть слишком глубоко. В его произведениях нет следов страдания. Ведь он был так добр, так честен, так здоров, так весело эгоистичен, если позволите мне употребить это слово. В том, что он написал, нет глубокого чувства. Сомневаюсь, были ли у него до женитьбы когда-нибудь бессонные ночи или дневные тревоги из-за женщины *, зато бедняга Дик Стиль умел умиляться и томиться, и вздыхать, и плакать, не осушая своих честных глаз, по целому десятку женщин сразу. В его сочинениях не раскрыта изнутри и не показана с уважением любовь к женщине, и, на мой взгляд, одно было следствием другого. Он бродит по свету, наблюдая их милые причуды, обычаи, глупости, амуры, соперничества и подмечая их с самым очаровательным лукавством. Он видит их в театре, или на балу, или на кукольном спектакле, в модной лавке, где они прицениваются к перчаткам и кружевам, или на аукционе, где они спорят из-за голубого фарфорового дракона или премиленького японского уродца, или в церкви, когда они измеряют взглядом ширину кринолинов своих соперниц или ширину их кружев, когда те проходят мимо. Или же он разглядывает из окна в "Подвязке" на Сент-Джеймс-стрит карету Арделии, ее шестерых лакеев, покуда та, сверкая диадемой, входит в гостиную; и памятуя, что ее отец торговец из Сити, ведущий дела с Турцией, он прикидывает, сколько губок понадобилось, чтобы купить ей серьги, и во сколько ящиков инжира обошлась ее карета; или он скромно наблюдает из-за дерева в Спринг-Гарден, как Сахарисса (которую он узнает под маской) спешит, выйдя из портшеза, в аллею, где ее ждет сэр Фоплинг. Он видит только светскую жизнь женщин. Аддисон был одним из самых частых завсегдатаев клубов своего времени. Он каждый день по многу часов проводил в этих излюбленных местах. Кроме пристрастия к вину - против которого, увы, всякая молитва бессильна, - он признавался, да будет это вам известно, дамы, что у него была ужасная привычка курить. Бедняга! Помните, жизнь его прошла в мужском обществе. О единственной женщине, которую он действительно знал, он ничего не писал. И мне кажется, если бы написал, это было бы вовсе не смешно.
{* "Я никогда не слышал, чтобы мистер Аддисон сочинил хоть одну эпиталаму, и даже, подобно более бедному и более талантливому поэту, Спенсеру, собственную женитьбу вынужден был воспеть сам", - "Письма Попа".}
Он любит сидеть в курительной "Греческой Кофейни" или в "Дьяволе", гулять у биржи и по Моллу *, смешиваясь с толпой в этом огромном всеобщем клубе, и потом посидеть там в одиночестве, всегда исполненный доброй воли и благожелательности ко всем мужчинам и женщинам, которые его окружали, и у него была потребность в какой-нибудь привычке, в пристрастии, которое связывало бы его с немногими; он никогда никому не причинял зла (если только не считать злом намек, что он несколько сомневается в способностях человека, или порицание с легкой похвалой); он смотрит на мир и с неиссякаемым юмором подшучивает над всеми нами, смеется беззлобным смехом, указывает нам на слабости или странности наших ближних с самой добродушной, доверительной улыбкой; а потом, обернувшись через плечо, нашептывает нашему ближнему о _наших_ слабостях. Чем был бы сэр Роджер де Коверли без его глупостей и очаровательных мелких сумасбродств? ** Если бы этот славный рыцарь не воззвал к людям, спящим в церкви, и не сказал "аминь" с такой восхитительной торжественностью; если бы он не произнес речь в суде a propos de bottes {Без всякого повода (франц.).}, просто чтобы показать свое достоинство мистеру Зрителю ***, если бы он, прогуливаясь в саду Темпла, не принял по ошибке Доль Тершит за почтенную даму; если бы он был мудрей, если бы его юмор не скрашивал ему жизнь и он был бы просто английским аристократом и любителем охоты, какую ценность представлял бы он для нас? Мы любим его за его суетность не меньше, чем за его достоинства. То, что в других смешно, в нем восхитительно; мы любим его, потому что смеемся над ним. И этот смех, эта милая слабость, эти безобидные причуды и нелепости, это безумие, эта честная мужественность и простота вызывают у нас в результате радость, доброту, нежность, жалость, благочестие; и если мои слушатели задумаются над тем, что читали и слышали, они согласятся, что духовным лицам не часто выпадает счастье вызвать такие чувства. Что тут странного? Разве славу божию должны непременно воспевать господа в черном облачении? Разве изрекать истину непременно нужно в мантии и стихаре, а без этого никто не может ее проповедовать? Я готов довериться этому милому священнику без сана - этому духовнику в коротком парике. Когда этот человек глядит из мира, чьи слабости он описывает так доброжелательно, на небо, которое сияет над всеми нами, я не могу представить себе человеческое лицо, озаренное более безмятежным восторгом, человеческий ум, охваченный более чистой любовью и восхищением, чем у Джозефа Аддисона. Послушайте его; вы знаете эти стихи с детства; но кто может слушать их священную музыку без любви и благоговения?
{* "Я заметил, что читатель редко увлекается книгой, пока не узнает, брюнет или блондин ее автор, тихого он или буйного нрава, женат или холост и прочие подробности, которые очень помогают правильно понять автора. Дабы удовлетворить подобное любопытство, столь естественное в читателе, я задумал написать эту и следующую статьи как введение к моему очередному сочинению, и в них расскажу кое-что о людях, которые заняты этой работой. Так как самое трудное дело - собрать материал, свести его воедино и держать корректуру выпадет на мою долю, я по справедливости должен начать с самого себя... В нашей семье рассказывают, что, когда моя мать была беременна мною на третьем месяце, ей приснилось, что она разрешилась от бремени судьей. Объясняется ли это тяжбой, которую в то время вела наша семья, или же тем, что мой отец был мировым судьей, не знаю; во всяком случае, я не настолько тщеславен, чтобы думать, что это знаменовало какое-либо высокое звание, которого я достигну в будущем, хотя соседи истолковали сон именно так. Серьезность моего поведения сразу же после появления на свет и все время, пока я сосал материнскую грудь, видимо, подтверждала вещий сон; ибо, как часто повторяла мне мать, я отбросил погремушку, когда мне еще не было двух месяцев, и не желал точить зубки о кольцо, пока она не сняла с него колокольчики.
Поскольку в остальном мое детство было ничем не замечательно, я обойду его молчанием. Я знаю, что в пору своего отрочества я слыл весьма угрюмым подростком, но всегда был любимцем учителя, который не раз говорил, что _зад у меня крепкий и выдержит много_. Поcтупив в университет, я сразу же отличился глубокомысленным молчанием, ибо за целых восемь лет, кроме общих упражнений в колледже, я едва ли произнес сотню слов; и право, я не помню, чтобы за всю жизнь сказал подряд три фразы...
Последние годы я провел в этом городе, где меня часто можно увидеть в самых посещаемых местах, хотя лишь пять-шесть самых близких друзей знают меня в лицо... Нет такого оживленного места, где я не был бы завсегдатаем; иногда люди видят, как я сую нос в кружок политиканов у Уилла и с напряженным вниманием слушаю рассказы, которые распространяются в этом маленьком обществе. Иногда я покуриваю трубку у Чайлдса, и хотя кажется, будто я целиком поглощен "Почтальоном", подслушиваю разговоры за всеми столиками сразу. Во вторник вечером я появляюсь в кафе в Сент-Джеймсе, а иногда присоединяюсь к небольшому политическому кружку во внутренней комнате, как человек, который пришел выслушать и одобрить присутствующих. Знают меня и в "Греческой Кофейне", и в "Дереве Какао", и в театрах на Друри-лейн и в Хэймаркете. Вот уже более двух лет в рядах меня принимают за торговца; у Джонатана в обществе биржевых маклеров я иногда схожу за еврея. Короче говоря, стоит мне увидеть кучку людей, как я затесываюсь среди них, хотя нигде не раскрываю рта, кроме как в своем клубе.