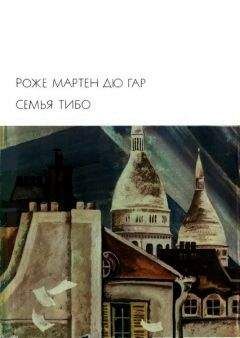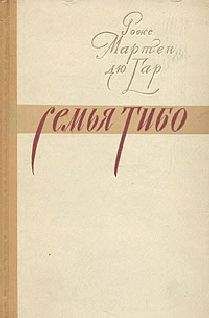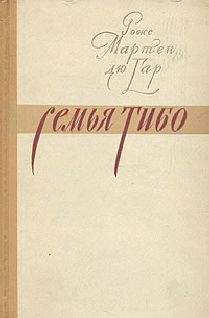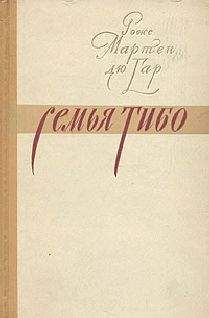Роже Гар - Семья Тибо (Том 3)
- Оставайся, сколько пожелаешь, - сказал Фонлаут. - Я пойду работать.
- Не выпьете ли чашку кофе? - предложила молодая женщина.
Она принесла поднос и поставила его перед Жаком.
- Наливайте себе без церемоний... Вы из Женевы?
- Из Парижа.
- А! - сказала она, заинтересованная. - Либкнехт считает, что сейчас многое зависит от Франции. Он говорит, что у вас большинство пролетариата решительно против войны. И что, на ваше счастье, у вас в правительстве имеется один социалист.
- Вивиани? Это бывший социалист.
- Если бы Франция захотела, какой великий пример она могла бы показать всей Европе!
Жак описал ей демонстрацию на бульварах. Он без всяких усилий понимал все, что она ему говорила, но объяснялся по-немецки немного медленно.
- У нас тоже вчера дрались на улицах, - сказала она. - Около сотни раненых, шестьсот или семьсот арестованных. И нынче вечером опять начнется... Во всех кварталах. А в девять часов все соберутся у Бранденбургских ворот.
- Во Франции, - сказал Жак, - нам приходится бороться с невероятной апатией средних классов...
В комнату вошел Фонлаут. Он улыбнулся.
- В Германии тоже... Всюду апатия... Поверишь ли, что, несмотря на неминуемую опасность, никто в рейхстаге еще не потребовал созыва комиссии по иностранным делам?.. Националисты чувствуют, что их поддерживает правительство, и начали в своей прессе неслыханно яростную кампанию! Каждый день они требуют ввести осадное положение в Берлине, арестовать всех вождей оппозиции, запретить пацифистские митинги!.. Пусть себе стараются! Сила не на их стороне... Повсюду, во всех городах Германии пролетариат волнуется, протестует, угрожает... Это просто великолепно... Мы вновь переживаем октябрьские дни тысяча девятьсот двенадцатого года, когда вместе с Ледебуром{91} и другими мы поднимали рабочие массы возгласом: "Война войне!.." Тогда правительство поняло, что война между капиталистическими державами немедленно вызовет революционное движение по всей Европе. Оно испугалось, затормозило свою политику. Мы и на этот раз одержим победу!
Жак поднялся с места.
- Ты уже собираешься уходить?
Жак ответил утвердительным кивком и попрощался с молодой женщиной.
- Война войне! - сказала она, и глаза ее заблестели.
- И на этот раз мы добьемся сохранения мира, - заявил Фонлаут, провожая Жака до передней. - Но надолго ли? Я тоже начинаю думать, что всеобщая война неизбежна и что революция не совершится, пока мы не пройдем через это...
Жак не хотел расставаться с Фонлаутом, не спросив его мнения по одному из наиболее занимавших его вопросов.
Он прервал Фонлаута:
- А есть ли у вас какие-нибудь точные данные относительно сговора между Веной и Берлином? Какую комедию разыгрывают они перед всей Европой? Что произошло за кулисами? Как по-твоему - было тут сообщничество или нет?
Фонлаут лукаво улыбнулся.
- Ах ты, француз!
- Почему француз?
- Потому что ты говоришь: "Да или нет..." То или это... У вас какая-то мания все сводить к ясным формулам! Как будто ясно выраженная мысль заведомо правильная!..
Жак, смущенный, в свою очередь, улыбнулся.
"В какой мере обоснована эта критика? - задавал он себе вопрос. - И в какой мере может она относиться ко мне?"
Фонлаут снова принял серьезный вид.
- Сообщничество? Как сказать... Сообщничество открытое, циничное - в этом нельзя быть уверенным. Я бы сказал: и да и нет... Конечно, в том удивлении, которое выказали наши правители в день ультиматума, была доля притворства. Но только известная доля. Говорят, что австрийский канцлер провел нашего. Так же как он провел все правительства Европы, и что наш Бетман-Гольвег просто-напросто действовал с непростительным легкомыслием. Говорят, что Берхтольд сообщил нашей Вильгельмштрассе только выхолощенное резюме ультиматума и, чтобы заблаговременно добиться от Германии поддержки австрийской политики перед правительствами других держав, обещал, что текст будет умеренным. Бетман ему поверил. Германия втянулась в эту историю крайне доверчиво и крайне неосторожно... Когда Бетман, Ягов и кайзер узнали наконец точное содержание ультиматума, - я слышал из самых достоверных источников, они были совершенно сражены.
- А какого числа они это узнали?
- Двадцать второго или двадцать третьего.
- В этом-то все и дело! Если двадцать второго, как меня уверяли в Париже, то Вильгельмштрассе еще успела бы оказать давление на Вену до вручения ультиматума. А она этого не сделала!
- Нет, правда, Тибо, - сказал Фонлаут, - я думаю, что Берлин был захвачен врасплох. Даже двадцать второго вечером было уже слишком поздно; слишком поздно для того, чтобы добиться от Вены изменения текста; слишком поздно для того, чтобы дезавуировать Австрию перед другими правительствами. И вот у Германии, скомпрометированной против ее воли, оставалось лишь одно средство спасти свой престиж: принять непримиримую позу, чтобы устрашить Европу и выиграть путем запугивания рискованную дипломатическую игру, в которую она, вольно или невольно, была втянута... По крайней мере, так говорят... И уверяют даже, - это тоже из очень осведомленного источника, будто до вчерашнего дня кайзер думал, что мастерски разыграл партию, ибо был уверен, что обеспечил нейтралитет России.
- Ну нет! Уже наверное Берлин был отлично осведомлен о воинственных замыслах Петербурга!
- Как утверждают, правительство только вчера поняло, что зашло в опасный тупик... Поэтому, - добавил он, как-то молодо улыбаясь, демонстрации, которые произойдут сегодня, имеют исключительное значение: народное предупреждение может оказать решающее влияние на правительство, которое колеблется!.. Ты придешь на Унтер-ден-Линден?
Жак отрицательно покачал головой и расстался с Фонлаутом без всяких дальнейших объяснений.
"Французская мания?.. - размышлял он, спускаясь по лестнице. - Ясная мысль - верная мысль?.. Нет, не думаю, чтобы в отношении меня это было справедливо... Нет... Для меня идеи - ясные или неясные - это, увы, всегда лишь временные точки опоры... Как раз в этом моя основная слабость..."
XLIX
Ровно в шесть часов Жак входил в "Ашингер" на Потсдамерплац; это была одна из главных дешевых столовых для бедного населения, которые имеют свои филиалы в каждом квартале Берлина.
Он заметил Траутенбаха, сидящего в одиночестве за столом, на котором стояла миска с супом из овощей. Немец был, казалось, погружен в чтение газеты, сложенной вчетверо и в таком виде приставленной к графину. Но его светлые глаза внимательно следили за дверью. Он не выказал ни малейшего удивления. Молодые люди небрежно пожали друг другу руки, словно они расстались только вчера. Затем Жак уселся и заказал порцию супа.
Траутенбах был белокурый еврей, почти рыжий, атлетического сложения; слегка вьющиеся, коротко подстриженные волосы не скрывали лба, похожего на лоб барашка. Кожа у него была белая, усеянная веснушками, толстые выпуклые губы - лишь немного розовее лица.
- Я боялся, чтобы мне не прислали кого-нибудь другого, - прошептал он по-немецки. - Для такой работы швейцарцы, по-моему, мало пригодны... Ты явился как раз вовремя. Завтра было бы уже слишком поздно. - Он улыбнулся с деланной небрежностью, играя горчичницей, словно говорил о каких-то безразличных вещах. - Это операция деликатная, по крайней мере для нас, добавил он загадочно. - Тебе ничего не придется делать.
- Ничего? - Жак почувствовал себя задетым.
- Только то, что я тебе скажу.
И тем же приглушенным тоном, с той же легкой улыбкой, прерывая от времени до времени свою речь деланным смешком, чтобы ввести в заблуждение тех, кто, может быть, за ними следил, Траутенбах кратко объяснил ему суть предстоящего дела.
По личной склонности он специализировался в качестве тайного руководителя своего рода международной революционной разведывательной службы. И вот несколько дней тому назад он узнал, что в Берлин прибыл австрийский офицер, полковник Штольбах, которому, как предполагали, дано было тайное поручение к военному министру; имелись все основания считать, что целью этого приезда было в данный момент уточнение условий сотрудничества между генеральными штабами Австрии и Германии. У Траутенбаха возник смелый план выкрасть у полковника его бумаги, и, для того чтобы выполнить это, он обеспечил себе помощь двух соучастников-специалистов: "Знатоки дела, - сказал он с многозначительной улыбкой, - я за них отвечаю, как за себя самого". Последняя деталь нимало не удивила Жака. Он знал, что Траутенбах долго жил среди берлинских социальных подонков и сохранил в этой подозрительной среде связи, которые уже не раз использовал в интересах дела.
Сегодня вечером Штольбах должен был в последний раз встретиться с министром. В отеле, где он остановился, он объявил, что сегодня ночью возвращается в Вену. Следовательно, нельзя было терять времени: бумаги надо было захватить в промежуток между моментом, когда Штольбах выйдет из министерства, и моментом, когда он сядет в поезд.