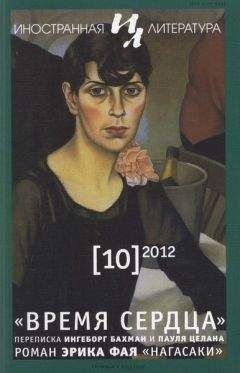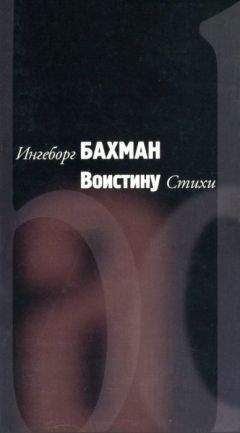Ингеборг Бахман - Смерть придет (Неоконченный рассказ)
Кто обвиняет Майцу, остается равнодушным к Вине, одни старики строги ко всем, и только покойники в их глазах преображаются в некие идеалы. Так преобразились наши дедушки и наши бабушки, не говоря уж о прадедушках и прабабушках, у тех уже растут крылья...
Время от времени, бывает годами, одна часть семьи стыдится за другую. Наш дядя Эди стыдится за нас перед своей женой, нашей тете Эрне стыдно за свою семью, а наш кузен Эди стыдится за дядю Эди, и за тетю Эрну, и за всех их детей, они стыдятся перед посторонними, перед ландратами, окружными судьями, курортниками, и у каждого есть своя причина. Дядя Эди стыдится того, что тетя Нана воровала тыквы с поля, принадлежащего родичу тети Эрны, и еще того, что Фреди - коммунист и болтает с курортниками о "более порядочном правительстве", о пенсионерах и "получателях окладов" и при этом имеет в виду дядю Зеппа, который живет на пенсию, а Фреди приходит в ярость всякий раз, когда ему напоминают о существовании Зеппа, который был штурмовиком и в Югославии участвовал в бог весть каких "акциях"; об "акциях" речь заходила часто, и Зепп тоже не перестает говорить об офицерах и о евреях, виновных в том, что война проиграна, и каждый вечер перед сном он говорит своим детям: Австрия - наша родина, но Германия - наше отечество, а еще он посылает детей в какой-то запрещенный союз, и там они снова учатся тому, чему сам он научился поздно: опять учатся петь, разворачивать знамена, разжигать лагерные костры, и тетя Рези качает головой - она тоже об этом знает, и потому, в сущности, знает вся семья, давшая обет молчания: добром ведь это не кончится. Хоть бы он не впутывал в это детей. Детей. Детей. Тетя Эрна говорит, ничего такого уж страшного не будет, и продолжает об этом рассказывать. И все продолжают рассказывать, что Ирг все еще верит, будто Гитлер жив, и что в газетах сегодня - сплошное вранье, ложь и обман, так же говорит Петер, а Ханзи говорит, что с политикой не желает иметь ничего общего. Ирг говорит, если что начнется против русских, он тут как тут, ее русских он знает, был на Кавказе, пятеро из нашей семьи были в России, русских они знают, двое были во Франции, французов они знают, двое были в Норвегии и в Греции, они знают все про норвежцев и греков. У всех у них нет настоящего доверия к странам, которые они знают, и, в конце концов, в России, и в Греции, и в Польше, и во Франции остались наши покойники, но от них мы уже не услышим, что они думают, а Курт и Зеппи были однажды в Италии, на большом кладбище в Априлии, и возложили там цветы на могилу Ханса, они рассказывают, и это передается дальше, что кладбище содержится очень хорошо, оно очень ухожено, а это огромное, гигантское кладбище даже представить себе невозможно, какое большое и очень ухоженное.
У нашей семьи есть вкус к великому, к великим эпохам и ко всему громадному. А что до языка нашей семьи, - ведь как можно понять нашу семью, если не знать ее языка, - язык этот старый, и запущенный, и застоявшийся, с отчеканенными речениями, и как все языки, иногда он уже вовсе не соответствует ни одному предмету, а иногда буквально точен там, где начинается поэзия.
Вот язык нашей семьи:
Фреди медного гроша не стоит.
У Эрны ровным счетом ничего нет.
То, что обещает Ханс, вилами по воде писано.
Мы видим на три аршина под землей, и меня зло берет, и Иисус-Мария-и-Иосиф, и он увел ее, как девчонку с танцев, и потаскуха останется потаскухой, да воздаст вам Бог, на безрыбье и рак рыба. Наша семья повторяет услышанное как попугай, она разговаривает, день-деньской все разговаривает и разговаривает - на кухнях, в погребах, в садах, на полях; невозможно понять, откуда берется у них столько тем для разговоров, но они заполняют мир... Тетя Эрна опять уже стоит у забора с соседкой, дядя Зепп пьет свою рюмашку шнапса в трактире у дяди Эди, они говорят про сено, про горячие компрессы, про погоду, про забой свиней, про общину, про аренду, про товарищество. Наша семья заботится о том, чтобы ничто на свете не осталось необговоренным, у нее есть собственное мнение обо всем, и его не так-то легко из нее вытянуть, только недолгое время, в течение семи лет, часть мнений была ей запрещена, потом ей их вернули; наша семья создала все на свете предрассудки, если их не существовало раньше, она придумала все жестокости, в нашей семье говорится: ту или того надо повесить, или надо донести, или лучшего он не заслуживает, и все-таки нашей семье ведома некоторая мягкость, ведомы слезы, ей приходилось уже плакать и рыдать о скверности мира, о подохшей корове, о тете Марии, о несчастье Майцы, наша семья охотнее всего плачет о себе самой, о том, что случается с нею, и редко о том, что случается с другими, - тогда ее пробирает озноб, которым она наслаждается: вы уже слышали, в Обертале нашли Таллера с тремя колотыми ранами в животе. Наша семья наслаждается дурными вестями, бомбежки городов она всегда находила недостаточно тяжелыми, число погибших - отнюдь не чрезмерным, и даже его преувеличивала, сотню мертвецов она превращает почти что в тысячу, дабы дрожь пробирала сильнее, она уютно потягивается и копается в несчастье, но надо отдать ей справедливость, она преувеличивает и собственное несчастье, страдания, какие кто-то претерпел...
В нашей семье каждый должен быть на кого-нибудь похож, уже про самых малых детей говорят, на кого они похожи - на Нону или на дядю Ханса, похороненного в Априлии, или на тетю Анну. Величайшая честь оказывается тому, кто дерзает походить на Нону, одну из наших бабушек, хотя разговоры о ней всегда вызывают страх, ибо ее считают хранительницей большей части семейных тайн. То здесь, то там кто-нибудь да и намекнет, какой жесткой она была, кусочка сахару, бывало, внучатам не даст, какой была одинокой и насколько умнее других, как зачитывалась книгами и все-все знала по истории, про Рудольфа фон Габсбурга, и про императора Максимилиана, и про принца Евгения, и как она часами громко и отчетливо читала у себя в спальне книжку по истории, никто не смел к ней входить, никто не смел говорить ей "ты", под конец она стала думать, будто все хотят ее отравить и будто бы против нее плетется заговор, в то время тетя Эрна всегда плакала, - она почти поверила, что другие тоже поверили, будто бы она хочет отравить Нону, а дядя Петер перестал бывать в доме, так как не желал терпеть, чтобы его называли убийцей собственной матери...
Разве я была бы достойна принадлежать к какой-либо семье, если бы выдала затаившихся в ней убийц, донесла бы на воров. Наверно, можно обличать преступления и пороки чужих семей, но выдать собственную, с ее нарывающими гнойниками, - этого я никогда не сделаю. И все же в своей семье мне дозволено видеть больше, нежели в любой другой. В том, что касается нашей семьи, у меня развилась необычайная зоркость, необычайно чуткий слух к ее языкам, меня сковало великое молчание о столь многом, о чем следует умалчивать в такой непосредственной близости.
Будем молчать. Наша семья, которая расплодилась на Земле, как человечество среди чуждых ему существ, наша семья, от которой миру уже не излечиться.
Я и Мы. Разве иногда я не думаю просто "мы"? Мы женщины и мы мужчины, мы души, мы проклятые, мы шкиперы, мы слепые, мы слепые шкиперы, мы ученые. Мы с нашими слезами, тщеславными помыслами, желаниями, надеждами и отчаянием.
Мы неделимые, разделенные каждым в отдельности, и все-таки Мы.
Разве не подразумеваю я, что это Мы идем против смерти, Мы, сопровождаемые покойниками, Мы, клонящиеся к упадку, Мы бесполезные?
В столькие моменты жизни это бываем Мы. Во всех мыслях, какие я больше не в состоянии продумывать одна. В слезах, которые могут быть выплаканы не только обо мне.
Мы желаем Нам к Новому году. Мы Нам желаем, чтобы Рози почувствовала себя лучше, желаем тете Эрне легкой смерти. Боимся дяди Эди. Думаем часто о Нане.
Нана, которая бесшумно шмыгала из двери в дверь и смешивала напитки, которая гнала скот на водопой. Нана, которая говорила: о Боже, о Боже. Так начиналась каждая ее фраза. Нана, которая сошла с ума, и ее пришлось привязать к кровати. Которая была в психлечебнице и боялась умереть с голоду, которой никто не давал хлеба, которая украла тыкву с соседского поля. Так мало про Нану, и все-все про Нану - кто она была, кто она есть, наша покойница?
Не наказывайте ее. Не наказывайте нас - ни за кого. Змеиное племя, избранники, вот мы кто, и один хочет нас растоптать, а другой - возвеличить. Всегда - мы, и я хочу, чтобы меня любили ради всех.