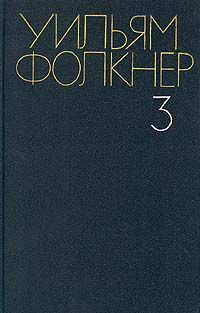Уильям Фолкнер - Сойди, Моисей
- Я пришла из-за Молли, - сказала она. -- Молли Бичем. Она говорит, что вы...
Он рассказал ей, а она не сводила с него глаз, выпрямившись на том самом жестком стуле, на котором сидела старая негритянка, к ногам ее был прислонен вылинявший зонтик. А на коленях под сложенными руками лежал старомодный ридикюль из бисера, чуть не с чемодан величиной.
- Его казнят сегодня вечером.
- И ничего нельзя сделать? Родители Молли и Хэмпа принадлежали моему дедушке. Мы с Молли родились в одном месяце. Мы росли вместе, как сестры.
- Я звонил, - сказал Стивенс. - Разговаривал с начальником джольетской тюрьмы и с окружным прокурором в Чикаго. Его судили с соблюдением всех законов, адвокат у него был хороший - из тех, кто занимается такими делами. Денег хватало. Он участвовал в подпольном бизнесе - обычный источник заработка для таких, как он.
Она не сводила с него глаз, прямая, неподвижная.
- Он убийца, мисс Уоршем. Он выстрелил полицейскому в спину. Дурной сын дурного отца. Он под конец не запирался, признал вину.
- Понимаю, - сказала она. И тут он сообразил, что она на него не смотрит, вернее, не видит его. -- Как ужасно.
- Но ведь и убийство ужасно, - сказал Стивенс. - Так будет лучше.
Она опять увидела его.
- Я думаю не о нем. Я думаю о Молли. Она не должна знать.
- Да, - сказал Стивенс. - Я уже говорил с мистером Уилмотом из газеты. Он согласился ничего об этом не сообщать. Я позвоню и в мемфисскую газету, но, может быть, уже поздно... Уговорить бы ее вернуться домой до того, как появится вечерний выпуск мемфисской газеты... Домой, где единственный белый, кого она видит, - это мистер Эдмондс, ему я позвоню; если другие черные и прослышат об этом, уверен, они от нее скроют. А уж потом, месяца через два-три, я съезжу туда и скажу ей, что он умер и похоронен где-то на Севере...
На этот раз она поглядела на него с таким выражением, что он замолчал; она сидела, выпрямившись на жестком стуле, и глядела на него, пока он не умолк.
- Она захочет увезти его домой, - сказала она.
- Его? - переспросил Стивенс. - Тело?
Она глядела на него. На ее лице не было возмущения, неодобрения. Оно выражало лишь извечное женское понимание чужого горя. Стивенс думал: "Она пришла в город пешком по такой жаре. Если только ее не подвез Хэмп в тележке, на которой развозит яйца и овощи".
- Он - единственный ребенок ее покойной дочери, ее старшенькой. Он должен вернуться домой.
- Он должен вернуться домой, - так же спокойно сказал Стивенс. - Я немедленно позабочусь об этом. Сейчас же позвоню.
- Вы добрый человек. - Впервые она шевельнулась, чуть переменила позу. Он смотрел, как ее руки притянули ридикюль, сжали его. - Я возьму расходы на себя. Не скажете ли вы мне, сколько это будет?..
Он поглядел ей прямо в лицо. И солгал, не моргнув глазом, быстро и легко:
- Десяти - двенадцати долларов вполне хватит. О ящике они сами позаботятся - останется только перевозка.
- Ящик? - Опять она рассматривала его тем же пытливо-отчужденным взглядом, словно ребенка. -- Он ей внук, мистер Стивенс. Когда она взяла его к себе, она дала ему имя моего отца - Сэмюел Уоршем. Не просто ящик, мистер Стивенс. Я знаю, что если выплачивать помесячно...
- Не просто ящик, - сказал Стивенс. Сказал точно таким же голосом, каким сказал "Он должен вернуться домой". - Мистер Эдмондс наверняка захочет помочь. И я знаю, что у старого Люка Бичема есть кое-какие сбережения в банке. И если вы разрешите, то я...
- Ничего не нужно, - сказала она. - Он смотрел, как она раскрыла ридикюль; смотрел, как она отсчитывает и кладет на стол двадцать пять долларов истертыми бумажками и мелочью - вплоть до никелей и центов. - На ближайшие расходы этого достаточно. Я скажу ей... Вы уверены, что надеяться не на что?
- Уверен. Его казнят сегодня вечером.
- Тогда попозже к вечеру я ей скажу, что он умер.
- Может быть, вы хотите, чтобы я сказал?
- Я сама, - сказала она.
- Тогда, может быть, мне зайти и поговорить с ней, как вы считаете?
- Это было бы очень любезно с вашей стороны.
И она ушла, все такая же прямая, с лестницы донеслись легкие, твердые, по-молодому энергичные шаги и внизу затихли. Он опять позвонил начальнику иллинойской тюрьмы, потом в похоронное бюро в Джольете. Затем снова пересек пустынную раскаленную площадь. На этот раз ему пришлось чуточку подождать, пока редактор вернется с обеда.
- Мы отвозим его домой, - заявил Стивенс. - Мисс Уоршем, вы, я и другие. Стоить это будет...
- Подождите, - сказал редактор. - Кто это - другие?
- Пока не знаю. Стоить это будет около двух сотен. Не считая телефонных переговоров - их я беру на себя. Постараюсь при первой же встрече выудить сколько-нибудь у Карозерса Эдмондса; не знаю сколько, но хоть сколько-нибудь. И, может быть, еще долларов пятьдесят на площади. Но остальное ляжет на меня и на вас. Она настояла на том, чтобы оставить мне двадцать пять долларов, а это вдвое больше той суммы, которую я назвал, и ровно в четыре раза больше того, что она может себе позволить...
- Подождите, - сказал редактор. - Подождите.
- Его привезут четвертым послезавтра, и мы поедем на вокзал - мисс Уоршем и его бабка, старая негритянка, в моей машине, а мы с вами - в вашей. Мисс Уоршем и бабка отвезут его домой, туда, где он родился. Где бабка его воспитала. Вернее, где пыталась воспитать. Катафалк до места будет стоить еще пятнадцать долларов, не считая цветов.
- Цветов? - воскликнул редактор.
- Цветов, - сказал Стивенс. - На все про все двести двадцать пять. И скорей всего ляжет это в основном на нас с вами. Согласны?
- То-то и оно, что не согласен, - ответил редактор. - Но и другого выхода я не вижу. А если бы и видел, так, клянусь богами, новизна ситуации тоже кое-чего стоит. Первый раз в жизни выкладываю деньги за материал, который заранее обещал не печатать.
- Обещаете не печатать, - сказал Стивенс.
И весь остаток этого знойного, а теперь еще и безветренного дня, пока чиновники из муниципалитета, и мировые судьи, и судебные исполнители из разных концов округа, проехав пятнадцать - двадцать миль, поднимались по лестнице в его контору, и окликали его, и поджидали какое-то время впустую, и уходили восвояси, и возвращались снова, и опять сидели и чертыхались, Стивенс обходил площадь по кругу - от лавки к лавке, от конторы к конторе, обращаясь к торговцу и клерку, хозяину и служащему, доктору, зубному врачу, адвокату и парикмахеру со своей подготовленной короткой речью: "Это чтобы отвезти домой мертвого негра. Ради мисс Уоршем. Подписывать ничего не надо просто дайте мне доллар. Ну, тогда полдоллара. Ну, четверть".
А вечером после ужина в звездной неподвижной темноте он отправился на другой конец города, где стоял дом мисс Уоршем, и постучался в некрашеную дверь. Его впустил Хэмп Уоршем, старик с большим животом, раздувшимся от овощей, составлявших основную пищу всех троих - его самого, его жены и мисс Уоршем, - негр с мутными старческими глазами, бахромой белых волос вокруг лысой макушки и с лицом римского полководца.
- Она вас ждет, - сказал он. - Она говорила, пожалуйста, поднимитесь наверх.
- А тетушка Молли там? - спросил Стивенс.
- Мы все там, - сказал Уоршем.
Итак, Стивенс прошел через тускло освещенную керосиновой лампой переднюю (он знал, что и во всем доме до сих пор только керосиновые лампы и нет водопровода) и поднялся впереди негра по чистой некрашеной лестнице вдоль оклеенной выцветшими обоями стены, а потом последовал за стариком по коридору и вошел в чистую, явно нежилую спальню, в которой сохранялся еле уловимый, но, несомненно, стародевический запах. Они были там все, как и сказал Уоршем, - его жена, очень толстая светлокожая негритянка в ярком тюрбане, прислонившаяся к косяку, мисс Уоршем, как всегда прямая, на жестком неудобном стуле, старая негритянка в единственной в комнате качалке у очага, где даже в такой вечер тускло тлели под золой угольки.
Она держала в руке глиняную трубку с тростниковым чубуком, но не курила, пепел в прокуренной чашечке лежал белый, потухший, и, впервые разглядев ее как следует, Стивенс подумал: "Боже ты милостивый, да ведь она не больше десятилетнего ребенка". Он тоже сел, так что вчетвером - он сам, мисс Уоршем, старая негритянка и ее брат - они образовали полукруг перед кирпичным очагом, в котором тлел слабый огонь - древний символ человеческого единения и солидарности.
- Он будет дома послезавтра, тетушка Молли, - сказал Стивенс.
Старая негритянка даже не взглянула на него, она ни разу не посмотрела в его сторону.
- Он умер, - сказала она. - Он жертва фараонова.
- Воистину так, Господи, - сказал Уоршем. - Жертва фараонова.
- Продали, продали моего Вениамина, - сказала старая негритянка. Продали в Египет.
Она стала медленно раскачиваться взад и вперед в качалке.
- Воистину так, Господи, - сказал Уоршем.
- Будет, - сказала мисс Уоршем. - Будет, Хэмп.
- Я звонил мистеру Эдмондсу, - сказал Стивенс. - Он все подготовит к вашему приезду.