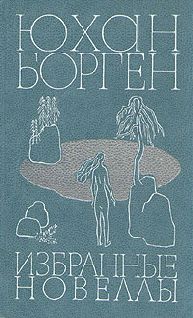Патрисия Данкер - Семь сказок о сексе и смерти
Он слушал, не перебивая, а когда я закончила, сказал:
— Слушай, детка, ты говоришь, тебе пытались навешать лапши про то, что женское счастье — кастрюли и пеленки. Ты не поверила. Ты не повелась на это. Отказалась кроить свою жизнь по чужой мерке. Феминистки ведь все хреновы лесбиянки, так? Ты ведь тоже, да? И меня они пичкали этим дерьмом. Про Бога, Америку и блядских коммунистов. Всей этой их отстойной херней.
Удивительно, но в тоне его звучало удовлетворение, как будто он только что сделал удивительное открытие. Он стиснул обе мои руки в искреннем порыве. Нас обоих обвели вокруг пальца, но мы-то видим их насквозь. В отблесках пива и правды мы глазели друг на друга, словно Товия и ангел, изрекающий пророчества[10]. Мы уже не в состоянии были договаривать фразы. Перевалило за час ночи. Мы проговорили больше шести часов, не останавливаясь, не разнимая рук. Бар пустел, музыкальный ящик молчал. Солдаты расходились, слышались удаляющиеся раскаты мужского смеха. Бал закончился.
— Где ты ночуешь? — Я неловко встала, поежилась от холода.
— С тобой, — ответил Келли, доставая из-под сиденья потертую кожаную куртку и спальный мешок.
Я засмеялась.
— Я живу в общежитии неподалеку. Там девочки и мальчики раздельно, — доходчиво объяснила я.
— Я сплю с тобой, детка, — невозмутимо отозвался Келли.
Наш счет за пиво достиг фантастических высот. Бармен принял от Келли доллары.
Раз в жизни я позволила за себя заплатить.
И мы нетвердо двинулись по темной дороге, стараясь держаться обочины. По другую сторону тянулся проволочный забор военной базы. Окна общежития были темными, дверь оказалась запертой.
— У тебя есть ключ, детка?
— Нет. И прекрати называть меня деткой, хренов сексист.
Келли хихикал всю дорогу обратно к бару. Хозяин уже запирал двери. Келли вынул очередную пригоршню долларов. Тот отказался брать деньги, но сказал, что мы можем переночевать на полу в зале. Келли расстелил свой плащ и спальник на вонючем, липком полу с шиком, достойным сэра Уолтера Рэйли[11], мы легли рядом и добродушно переругивались, пока не заснули, словно пара набегавшихся котят, закинув друг на друга лапы.
На следующее утро хозяин разбудил нас в семь. Мои губы холодила кожа куртки Келли, от его волос пахло выдохшимся пивом.
— Фу, — сказала я, — какая гадость. Тебе срочно нужно в душ.
В утреннем свете он казался еще более худым и бледным.
— У тебя просто блядское похмелье, детка, — пробурчал он дружелюбно, закуривая первую утреннюю сигарету.
Я наконец увидела мотоцикл Келли, припаркованный у бара. Он был величиной с египетского сфинкса, с двумя огромными серебристыми выхлопными трубами и зеркалами заднего вида на стержнях. Выглядело это убийственно. Я всегда хотела мотоцикл, но мама не разрешала. Келли подметил мой завистливый взгляд и приобнял меня за плечи:
— Тебе нужен мотоцикл, детка, — сказал он. Все лесбиянки в гребаном Лос-Анджелесе гоняют на таких. И еще у них татуировки. Можешь одновременно завести то и другое.
Мы отправились обратно по теперь уже людной улице к моему общежитию — потрепанные, желтоглазые, дурно пахнущие. Дверь была открыта, в стеклянной будке сидела стервозная остроносая тетка, которая требовала, чтобы я приглушала музыку, даже когда я была у себя в комнате одна. Она уставилась на меня.
— Sie müssen Ihr Zimmer sofort aufraümen, Fraulein. Aber sofort.
— Что она сказала?
— Мне нужно забрать вещи и выметаться.
Келли высокомерно кивнул ей и двинулся за мной к лестнице. Тетка подскочила, выпрыгнула из своей стеклянной будки, будто в цирке, и обрушила на нас поток гневных немецких фраз. Она ни под каким видом не пустит Келли в здание.
— Тебя здесь не любят. Ты что, бывал здесь раньше?
— Скажи ей, я собираюсь нести твой гребаный чемодан, — огрызнулся Келли, сверкнув темными очками.
— Er will meine Sachen tragen, — не очень уверенно сказала я. И для пущей убедительности добавила: — Er ist ein Gentleman.
Келли злорадно ухмыльнулся. Тетка выпучила глаза. Мы побежали наверх и заперлись в душевой. Я мылась шампунем Келли, а он — моим мылом. Мы яростно смывали с себя похмелье, а потом мстительно вытерлись всеми общежитскими полотенцами сразу. Через час или около того мы, причесанные, вымытые, переодетые в чистое, стояли перед мотоциклом. У меня был только маленький рюкзак, который легко уместился в огромном багажном отсеке, а вот второго шлема не оказалось.
— Просто прижмись головой к моему плечу, детка, — предложил Келли. — Может, все обойдется. Куда хочешь поехать?
— В Нюрнберг.
Келли посмотрел на карту и запомнил дорогу с пугающей точностью.
— Нюрнберг. Это там закончилась последняя блядская война?
— Что-то вроде. Там судили военных преступников. А войны никогда не заканчиваются.
Он кивнул и опустил на лицо черное забрало. Вскарабкавшись на сиденье этого чудища, я оказалась немного выше Келли, и ветер ударил мне в лицо. Пришлось согнуться и крепко обнять его за талию, а мотоцикл с ревом уносил нас прочь.
Дороги между Бамбергом и Нюрнбергом очень красивы — леса, пшеничные поля, маленькие озера, сверкающие на солнце, опрятные деревеньки с геранью на окнах и цветастыми занавесками… Вся эта идиллия проносилась мимо, но глаза мои были зажмурены, а рот открыт в одном нескончаемом, диком вопле ужаса. Келли растерял весь отпущенный ему страх смерти во Вьетнаме, но сейчас он определенно намеревался лишить жизни нас обоих. Я кричала во весь голос, Келли ничего не слышал. Я вцепилась в него, будто маньяк-душитель. Бесполезно. Келли отклонялся на поворотах, и мы прорывались сквозь густой солнечный свет, словно арестанты, вырвавшиеся на волю. Несколько раз он притормаживал на светофорах, но к тому времени я совсем ослабела от страха и беспрерывных молитв. Мне казалось, что я по-прежнему кричу, но на деле я лишь повторяла беззвучно: “стой, стой”. Келли потрепал мои побелевшие сжатые кулаки черной перчаткой и немного поерзал, стараясь высвободить ребра из моей хватки. Он был отгорожен от мира своим шлемом — тот был его маской, его вторым лицом.
Мы приехали в Нюрнберг к полудню. Мотоцикл, подпрыгивая на булыжниках, остановился у самой двери очередного студенческого общежития. Мои зубы тряслись и дребезжали. Келли зафиксировал мотоцикл на тонком серебристом упоре и ждал, пока я неловко сползала с чудовища. Он поднял черное забрало. Поразительно — под забралом оказались темные очки. Должно быть, весь яркий пейзаж виделся ему чередой застывших черных контуров.
— Что с тобой, детка? Ты чуть не переломала мне ребра.
— Мне было страшно, — слабо простонала я, оседая на край тротуара.
Он не на шутку встревожился:
— Страшно? Нужно было сказать, я бы ехал помедленней.
Вряд ли я могла что-нибудь ему сообщить, сидя на мотоцикле за его спиной, — разве что прокусить черное кожаное плечо, и не факт, что он бы это почувствовал. Оставалось только одно: сломать ему ребра.
— Да ладно. Остались целы, и хорошо.
Он посмотрел на меня. Я на него. Он снял темные очки, мы смотрели друг другу в глаза. Мы оба знали, что попрощаемся сейчас и никогда больше не встретимся. Как быть в такие моменты, когда сценарий подводит? Ведь у мужчин и женщин всегда есть сценарий. Ждешь нужного момента и с выражением произносишь свою реплику. А слова можно выучить и по фильмам. Есть сценарий для каждой ситуации. Даже для этой нашей минуты. Но одна важная деталь не сходилась. Если бы все пошло так, как задумал режиссер, мы бы провели незабываемую ночь любви, и расстались бы навеки, унося с собой нежные воспоминания и сожаления. Последний долгий поцелуй. Музыка. Крупный план. Конец фильма. Титры. Но мы с Келли стояли друг против друга с сухими глазами и знали, что уже сказали свои слова — без сценария, только то, что хотели сказать, и услышали друг друга. Мы не пришли ни к пониманию, ни к согласию; неоконченный диалог все еще висел в воздухе, но наше внимание друг к другу, окрашенное скорее алкоголем, чем вожделением, несло в себе всю тревожную атмосферу встречи на одну ночь — с такой особой, ровной интенсивностью, что присуща семейным отношениям. Когда связь между вами ясна как день — проступает на стенах, на ваших лицах, на руках, сжимающих стаканы.
Мы стояли, глядя друг на друга, пытаясь вобрать в себя каждую деталь уже ускользающего лица. Он склонился и осторожно поцеловал меня в щеку. От него пахло мылом — моим мылом, — моторным маслом, бензином и старой кожей.
— Пока, детка. Попадай в цель с первого гребаного выстрела. Хорошей тебе жизни.
Тогда было принято говорить подобные вещи. Это был наш сценарий.
— До свидания, Келли. Спасибо, что подвез.
Он опустил забрало, и лицо его исчезло. Он вскочил в седло мотоцикла, который громко урчал все это время, и прогрохотал по мощеной улочке в клубах черного дыма, под неодобрительными немецкими взглядами. На углу он помедлил, чуть притормозил ногой на обочине, потом повернул налево и влился в неторопливый поток машин.